Письма с Камчатки
В. А. Бердинских
Историка Валентина Сергеева и меня связывала многолетняя дружба. После того, как он уехал на Камчатку (1980–1995), мы стали активно переписываться, живо и критично обсуждая все наболевшие проблемы. Свой отъезд В. Д. Сергеев рассматривал как вынужденный, в силу невозможности любому талантливому и живому человеку работать в условиях жёстокого гнёта местного начальства всех уровней и давящей атмосферы застоя. Атмосфера на Камчатке, действительно, в силу невероятной удалённости от центра власти, была посвободнее.
Небольшую часть этих писем я и предлагаю вниманию читателей.
Дорогой Виктор!
Полностью сочувствуем твоему новому положению, ты его очень точно охарактеризовал. Что делать, Фауст... Можно, наверное, было бы избежать сего ответственнейшего поста, да уж больно натиск на тебя был мощным. Тем более теперь такие революционные перемены в конторе1, глядишь, не вечно ведь... Ежели, конечно, ориентироваться на самостоятельную работу, а не на целевую... Насчёт Вульфсона — он категорически завязывает с аспирантами-заочниками. Видимо, более реален альянс с Антоновым, тем более что он сейчас работает в институте Крупской2 — педагогическая контора, кстати, там ведь и Слава Поздеев учится, тоже как целевик. Семёныч3 всё тянет с ответом тебе, я его срамлю.
Дела такие — въехали в квартиры, живём почти рядом. Семёныч на пятом, я на втором этажах. Приехал Шапанов4, поселился пока у Виноградова, ему дают квартиру, наверное, в марте-мае. Сейчас взгляд на Камчатский пединститут5 у нас более трезвый и вообще на этот край. Шапанов в шоке от школьных порядков, он ведь парень широкого теоретического плана, а тут что-то вроде техникума, ниже уровнем, чем в Вятке та же контора. Книг ни черта нет, я первое время до прихода контейнера толкался в институтской библиотеке — жалкие крохи. Жалею, что не взял книги по русской истории, как-то догадался сдуру не взять книги по народникам — Волка, Седова — тут ничего нет. Ладно — у Семёныча кое-что имеется. Областная библиотека6 имеет генеральный каталог меньше, чем наш краеведческий отдел в Герценке. Книгами тут не интересуются, хотя хватают. Кругом разговоры о гарнитурах, тонах мебелей, золоте, бриллиантах и чёрт знает о чём, только не о книгах. Старожилы поскуливают — вот есть совсем нечего стало, а раньше — такая-то рыба, такая-то икра... О том, что тут есть, я тебе уже писал. Им грех жаловаться, заелись, их бы к нам, в Вятку или в Свердловск7.
Что я действительно промахнулся — надо было взять два хороших болгарских книжных шкафа, секционный шкаф — хотя взятые книги помещаются, но просто для других потребностей. Мебели здесь вовсе нет, за драными шкафами в комиссионных гонка.
С природой теперь контактов нет, всё домашние дела да институт. Студент замысловатый, с фанаберией, исходящей от камчатских денег и положения родителей. Но фанаберия ничем не подкреплена. Порой до наглости доходят. Пример: вчера на Средних веках рассказывал о католической церкви, говорю что-то про папу. Из угла вопрос — «А мама?» Я сделал внушение, что если есть потуги на остроту, то она должна ориентироваться, по крайней мере, на каноны Ильфа и Петрова. Тут уже никакой реакции. Одно хорошо, что на кафедре сами себе хозяева, а это уже немаловажно. Не знаю, надолго ли меня хватит.
Была пурга — детей в школе не учили, всё замело, ни зги не видно. Местные смеются — это цветочки. Ничего себе. До института хода 25 минут, обратно сложнее — возвращаться надо в гору, овраги, гололёд. Автобусы ходят когда как, при гололедице не поднимаются в нашу гору, и вообще к нам лучше добираться, чем в некоторые другие районы города. Преимущество нашего района — в горячей воде, её почти нигде больше нет, топят титаны.
Разобрал свои бумаги, кое-что отослал по Трощанскому Паше Акинину, у него в «Вятке»8 будет сюжет. Хороший парень, жаль ему свинью наши подложили летом. Немного оклемаюсь, устроюсь с бытом — стены пробивать и прочее: шкафы на кухню вешать, шторы — и займусь Хохряковым для Москвы, хотя не знаю, насколько это теперь реально. При отсутствии книг и журналов Халтурина буду пока делать на том, что есть. Потом вакуумы заполню. Видимо, всё же года через три вернусь. Хотелось бы в финансовый. Опять же думается: при условии кардинальных перемен, можно бы и в любимую контору. Опять же родная история, которой в финансовой быть не может.
Привет всем порядочным вятским людям. Черкни какие-либо сплетни про нашу кафедру. Как там Мусихин, привет ему, чай, всё на нём теперь.
Ну, будь здоров!
21.12.1980 Петропавловск-Камчатский.
Дорогой Виктор!
Рад получить от тебя письмецо. Прочёл и Семёнычу. Ты прав, он сейчас только тем и занят, что катает циркуляры, причём не только по кафедре, но и по факультету, потому что деканша взяла двухмесячный отпуск, а кого в замену, как не его. Кстати, он развил тут сущее паблисити в духе Большого Американского Бизнеса, рекламирует себя и нас в камчатской прессе. Вырезку посылаю.
Живём мы нормально. Народ в институте славный, хотя, видимо, и тут бывают бури. Но нас это не касаемо. И не дай бог коснуться. Главное, что никто не подкусывает, не шипит за углом, не визжит, не гавкает. Люди на кафедре все, за исключением декана, мужики. Деканша человек хороший, с нею можно прекрасно ладить. Словом, так — деканша, преподаёт историю СССР, феодализм, далее Виноградов, зав[едующий] кафедрой, которого замещает наш общий друг, ведёт капитализм, потом Семёныч — империализм и в довесок — методика преподавания истории, затем — советский период — один товарищ пока без степени. По всеобщей истории — древний мир — начинает молодой парнишка, только кончил МГУ, потом Средние века и первую часть новой истории — я, затем вторую часть новой истории, новую историю Азии и Африки — преподаватель со степенью, потом — новейшая история — Валентин Палыч, тебе известный, он же ведёт и право. Вот и всё. К факультету относится и инфак английский с немецким.
На курсе историков всего-всего по одной группе. Там тоже неплохие люди. Сам институт махонький, похож на
На той неделе летал в посёлок Козыревск, близ Ключевского вулкана, в командировку от института. Вот было впечатление, видел все вулканы Камчатки, кроме нескольких, что южнее Петропавловска. Сверху — цепи снежных гор, над ними вулканы — голубые громады, и изнутри как бы светятся. Видел место, где Долина Гейзеров, но с высоты шести к[ило]м[етров]. Деталей не разглядел. А в Козыревске — и Ключевской вулкан, и Камень, и Безымянный, и Толбачик — во всей красе. Вечером над Ключами — огненный отсвет. Дьявольское видение! А так — посёлок как посёлок. Леспромхозовский. Поразили там обыкновенные, как у нас на Вятке деревья, в Петропавловске я отвык от них — все низкорослые деревца.
Вот так и живём. Теперь о Вятке. Что это Мусихин недовольный ходит? Попал как кур в ощип. Привет ему, соберусь, мол, напишу. К Кузнецовой, конечно, не резон возвращаться. Ты пишешь — утвердили тему в Свердловске, для сдачи экзамена, — я не совсем понял что это? Тема диссертации? Как настроения относительно ссылки вятской? Семёныч говорит, что написал Антонову. Рад за Пашу, он писал, но я не ответил. Жаль, что факультетская публика на него косо смотрит. Мне охота написать ректору о Паше, а то ведь будет случай — возьмут какого-нибудь чиновничка из молодых его же сокурсников. Кстати, как там поживает Володя Дряхлов? Таких, как Пашка, надо брать. Что наша с Семёнычем бывшая начальница? И вообще факультет? Побольше сведений, слухов, слухов!!! Авось напишу наподобие И. Грековой свою «кафедру». Работает ещё профессор Серебряков, то бишь, Эммаусский? Мне Василий Афанасьевич9, когда уходил, говорит — напиши причину ухода — всё как есть. Ей-богу, напишу.
Я сейчас делаю Хохрякова для Москвы, чувствую, что серо и примитивно. Но надо достукать его и приниматься за Степана Николаевича. Пока не выберусь в Европу — могу писать лишь о вятских годах — тут всё под рукою, всё есть, а потом, даст бог — командировку возьму. Попытаюсь сделать главу — отдельный очерк «Вятские годы Степана Халтурина» и сунуть куда-либо в приличное место. А между делом попробовать его же в «Вятку-83». Тут беда с публикациями, мне ведь надо на доцента. В Вятке из-за наших умников при наличии публикаций не мог — какой к чёрту доцент, ежели ведёт занятия на подготовительном отделении. А здесь — надо публикации, тут несколько человек годами сидят, не могут стать доцентами, правда, и не делают ни черта. Поклонюсь редколлегии «Вятки», давно ведь в ней не был, да по настоящему лишь один раз в 1975 году.
Словом — живём небольшой дружной вятской колонией. Прослезиться готов при каждом упоминании Вятской земли в прессе и по радио. Дочка мне специально подсовывает, ежели что попадётся. Смотрели «От всего сердца», где Леонтьева вела передачу из Кирово-Чепецкого района, а намедни взял «Воспоминания» А. А. Рылова, слезьми уливаюсь, читая про Свистунью, вятские храмы и т. д. Вдали Вятка ещё милее. Но в Вятку пока не хочется. Некуда. А потом видно будет. ...Пишу, а по радио — сигналы точного времени — в Москве полдень, стало быть, у вас — час, а нам скоро спать: у нас девять вечера. Такова камчатская жизнь. С бумагой туго, пишу на остатках, испорченных от перепечатки «Хохрякова». Поклон всей Вятской землице, библиотеке Герцена, обоим пивбарам. Вечная память «Серафиму». Пиши.
6 февраля 1981, в год
Дорогой Виктор!
Уж ты прости нас, окаянных, зажравшихся на австралийской баранине и новозеландском масле, на камчатской икре и тихоокеанской сельди, на вьетнамских ананасах и корейских яблоках, на здешнем тарифе и прибавках (теперь уже ждём третью).
Гады мы, и оправдание нам такое, что это мы сознаём, кто есть. Словом — лето проходит, стоит осень — начинают сопки желтеть постепенно, дни тёплые, дождей нет — типичная камчатская осень. Я в отпуске ещё десять дней, гигант мысли — работает с 1 сентября, он отпуска не догулял, привлекли сердешного к работе. Самое-то забавное, что стал я зав[едующим] кафедрой. Виноградов наотрез отказался — надо, мол, докторскую кончать, гигант тоже заупрямился, да ещё он тут несколько подмочил свою репутацию своими этнографическими экскурсиями по типу посещения Серафима и т. д. Пришлось мне взяться. Да и слава богу, так как грозили и большие обязанности, а тут хоть прибавка денежная и усечённость нагрузки. Второе изменение моё — снова с всеобщей истории вернулся на родную, отечественную. Слава богу — пришлось только советский период брать, но поступил так: взял себе
В банке тёмного стекла
Из-под импортного пива
Роза красная цвела
Гордо и неприхотливо.
Исторический роман
Сочинял я понемногу,
Пробираясь, как в туман,
От пролога к эпилогу.
Вот такие наши дела камчатские. Далее за отпуск перекатал я Павла Даниловича Хохрякова и отправил в Политиздат. Там, бог знает, может что и выйдет. Теперь хочу вернуться всё же к вятским разночинцам. Решил вот что сделать — в свободной очерковой форме накатать книжку «За Землю и Волю!» (Очерки истории революционно-демократического движения в Вятском крае)10. Тут включу всё, что в диссертацию не вошло, чтобы как в одном стихе — «И стреляют, и любовь».
Правда, не все свои бумаги захватил, но архивные выписки вятско-казанско-московско-ленинградские привёз и картотеку тоже.
А камчатской тематикой, как сулил Виноградов, нет возможности заниматься по убогости литературы и отдалённости архивов. Да и кроме Беринга да Петропавловской обороны, которые со всех концов ухвачены, тут ничего нет, а главное — занимаются этими делами люди из центров.
О новостях ваших — занятно. Что ж, поздравим Лахмана, проводим на пенсион Марину Ивановну, а Мусихина в Ленинград. Жаль, что у тебя как-то не путём пошло. Вот бы, думали мы с Семёнычем, тебе перебежать на кафедру истории. А что собой являет Бородин, он ведь занят, как мне представляется, делами из XIX века. Интересно насчёт океанариума в холле института. Эк чего выдумал ректор. Потом можно недругов в него макать, в океанариум.
Прочёл чудовскую книжку11, любезно выслала Софья Моисеевна12 из Герценки. Книжка для библиографов и краеведов интересна, да уж написана убого, хотя работа была проделана огромная, жаль, что нет аппарата сносок, всё как-то глухо, это не даёт возможности хотя бы нам при надобности пойти по следам. Действительно, печатается, кто хочет. Вот бы тебе-то сунуться, да комсомол твой не стимулирует этого, используй тот объективный фактор, о котором писал, авось удастся выбраться. А там, глядишь, всё легче будет.
Насчёт девчонок-аспиранток Кирюхиной — одна, слышно, замуж в Москву подалась. Стало быть, не приедет. Ведь с уходом Зиминой на пенсию, а Мусихина в аспирантуру — у них опять два места надо закрывать, кто же это одиозное подготовительное отделение поведёт? А наш профессор Серебряков — он, стало быть, как во Франции — «бессмертный», там у них так академиков именуют. Авдееву не представляю без деканства. Ну пусть Андрюша послужит.
Как дела на других кафедрах? Заранее поздравляем Решетовича. Как Мансур? Говорят, защищает скоро или уже? Всё не напишу Новосёлову. Так ему ведь год не писал ни разу, и Паше Маракулину, и Евгению Дмитриевичу. Это уж скотство.
Вообще по Кирову не скучаю, а по хорошим людям очень, иногда думаю — вот бы их сюда, на камчатские тарифы, прибавки и австралийскую баранину. Старая Вятка иногда снится. Приятно, когда в центральной прессе читаешь, скажем, о музее Васнецовых в Рябове, или как вчера по телевидению, главное по камчатской программе — «Вятская гармонь» — вёл Леонид Дьяконов. Или от всего сердца вещала зимой из Кирово-Чепецка Валентина Леонтьева. Приятно. Также впору собирать тут вятское землячество. Наша зав[едующая] библиотекой в институте вятская, есть студенты-заочники вятские и т. д. Прикнопил перед столом пригласительный билетик Герценки с изображением входа и памятником Александру Ивановичу. Смотрю и умиляюсь — на фотографии видны железные перильца у лестниц — я в детстве любил на них кувыркаться, как на турнике. А сейчас от них, от перил за 10 тысяч вёрст, и торчат тут в небо вулканы, правда, последнее время не трясёт. К чему бы? Грибов и ягод тут тьма, лес — за нашими с Иваном13 домами, несут вёдрами, корзинами, килограммами и центнерами. Водка подорожала, бичи ропщут. Но сам не потребляю вовсе. А Ивану денег хватит. Вообще стал удивительно домашним человеком. В город не хожу, сижу дома, хожу за Сашкой в ясли, иногда на сопки по ягоды и грибы. Потому что в город незачем ходить, кроме института. И город-то маленький. Вот это ценное качество, ежели жить не в Москве и Ленинграде, то лучше в малом городе.
Что слышно о Китаеве? Молодец парень! Семёныч тут несколько, как мне кажется, залентяйничал. Ничего не читает, вроде и не надо ему к защите готовиться. Дело-то ведь серьёзное. Мне, конечно, жаль неиспользованной возможности начать докторскую. Другое дело стал бы или нет, но тут ясно чувствуешь — что заранее как бы крест положил. И от Вятки отбился в плане писаний. Конечно, книжку, думаю, не откажут тиснуть вроде той, о которой тебе писал, а вот с Союзом писателей там было бы просто, а тут, на Камчатке, нужна ведь разработка местных сюжетов, но ведь не буду же катать о быте вулканологов и рыбаков. Но вот крутится в мозгах какое-то ретро на тему — живу у океана, кругом дичь, вулканы и бичи, а где-то тот тихий городок, с библиотекой, особнячками ампирными, земскими изданиями, вятской стариной.
Океанский берег
И вулкан вдали.
Здесь когда-то Беринг
Ладил корабли.
Из-за синей дали,
По пути на юг,
Якоря бросали
Лаперуз и Кук.
А теперь картина —
Беринг, помолчи, —
Пьют у магазина
Рваные бичи.
Сентябрь 1981
Дорогой Виктор!
...У меня ещё неделя отпуска, а потом — работа, служба — бумаги, бумаги и ещё раз бумаги, возведённые в некую умопомрачительную степень. Жизнь такая — «бесконечны, безобразны в мутной месяца игре», окружают меня бесы разны...
Да, похвастаюсь — новая машинка: УНИС, югославская по патентам ФРГ. Несколько лет назад такие продавали в Москве, но с мелким шрифтом, а сейчас сделали и с крупным...
...У меня до сих пор болит душа по одной неосуществлённой теме. Пять лет назад в Кирсе мне заводское начальство предлагало взяться за написание истории Кирсинского завода. Вот тема! Конец XVIII века, крестьянские и рабочие волнения, умельцы, чугунное художественное литьё, изобретатели, забастовки, стачки, влияние ссыльных, события Гражданской войны... И масса документов!!! Это тебе не историю какого-то «Кирпромстроя» созидать. Тут прошлое, доблестное и героическое.
Но не связался с темой по причине хлопот с диссертацией, защитой. Охота страшно вернуться к вятской тематике. Сплю и вижу Вятку, Малмыж, Кукарку, Орлов, Слободской... Витберговскую ротонду, львов на воротах Вятки, Слободского, Кукарки, купола Успенского собора, щедринский дом, присутственные места, вижу тени Герцена и Халтурина на вятских улочках, ощущаю запах старых книг и бумаг.
А здесь — золотая камчатская осень, три основных цвета: жёлтый на сопках, синий — небо и океан, белый — снег на вулканах. Прекрасна природа Камчатки, и будут сниться мне цепи гор, фантастическая картина с самолёта, когда разом все вулканы сверху видны... Но душа рвётся в Вятку, в Герценовскую библиотеку, в архивы.
Погода тут переменчива. Вчера был ясный солнечный тёплый день, сегодня — слякоть, туман, сырость. Скоро после хорошего ветра сдует листву и начнётся мерзость — голые ветки, опустевшие сопки, свинцовые воды Авачинской бухты. Но смею надеяться, что это будет последняя моя осень на Камчатке.
Напиши, как и что в Вятке, в издательстве. Мне Евгений Дмитриевич написал, что Шумихин выведен частично на пенсию, очень это переживает. Жаль Виктора Георгиевича, он соль вятской культуры.
28.09.82
Виктор Аркадьевич! Голубчик!
Нехорош я, два месяца мурыжился с ответом. Да вот и укор мне вторым письмом. Ну, полагаю, простишь. Самое главное — поздравление моё тебе с получением некоей бумаги в коричневых корочках.
«Волга» в наших дальневосточных краях редкость, но буду в областной библиотеке — посмотрю твоего Ермила Ивановича. Полагаю, и в 12[-м] номере выдадут твой сюжет тоже. За идею об историках держусь обеими руками. Это ведь Эммаусский всё твердил об этой теме, но я всегда думал — зачем это ему: ведь он же всю жизнь компилировал, в частности, эту четвёрку. О вытолкновении из «Молодой гвардии» не печалься, тем более что не насовсем вытолкнули. И вообще ты молодец! Ей-богу!
С удовольствием прочёл вятские, вернее, вятско-институтские новости. Перемены в конторе существенные. Бородину привет, я рад, что он расстался с деканством. Пусть Низов вкалывает, ему надо. Рад и за Ирину Игоревну. Всё это надо бы раньше делать было, но, вероятно, она была просто забита этими эммаусско-кирюхинскими устоями, которые теперь рушатся. Кстати, как сама генеральша? Мне бы очень хотелось видеть её при известии о докторстве Бородина, особенно Ирины Игоревны. Книгу Липина я видел здесь в продаже, понял, что это под докторскую. Как дела в этом плане у Лузяниной? Я недавно купил книжку семидесятых годов — сборник «Декабристы и литература», там её статейка. Вот умный человек, вот кому быть по праву доктором.
Мои дела таковы. Нагрузка — XIX век, два семестра на втором курсе, там же спецсеминар по культуре XIX века, историография на 4[-м] и 5[-м] курсах, спецкурс по историческому роману — это стационар. На ОЗО — XVIII и XIX века, исторический роман, историография. Часов много, нет педпрактики, которую я, впрочем, и не жажду. Жизнь сонная и ленивая, от института до дома, от дома до института. Окромя книжных магазинов нигде не бываю. Рукопись о разночинцах14 перепечатал аккуратно, как кажется. Кое-что переделал, сократил. Получилось 270 страниц — 12 листов, собственно так мне наши издатели и говорили. Не шедевр, конечно. На днях вышлю два экземпляра для них. А там не знаю, как получится. Спасибо за известие о том, что в «Вятку» Г. П. Зонова взяла мою писанину. Тут у меня вышла накладка с «Вопросами истории» — я им послал то же, что и в «Вятку», под тем же названием «Вятские годы Степана Халтурина», соответственно на 8 страниц, они вернули, заметив, что следует доработать и упомянуть раннюю литературу о Халтурине — Корольчук, Полевого, нашего Соболева, причём ответ был удивительно неграмотный во всём, в частности, написали, чтобы я использовал «работу Э. А. Корольчука», вот бы Эсфирь Абрамовна в гробу перевернулась, узнав, что её числят под мужским полом. Так что я не знаю, переделывать ли мне заметку или чёрт с ней.
Далее — начал писать о Халтурине, не знаю, как выйдет. Он у меня не входит в прокрустово ложе со своими народовольческими устремлениями, а то ведь у нас его подают как вариант Обнорского, хотя тот несколько бухгалтерен на западный социал-демократический манер, ему бы с Бебелями в Интернационалах сидеть, а тут Россия. Степан-то Николаевич куда более русский, тем и обаятелен. Народовольческие страницы Халтурина мне видятся отменно, а рабочая тема — что в общем, главное — сера и непроглядна для меня. Нет по ней ничего, кроме того, что уже известно. Вот этим и маюсь.
Как насчёт Вятского биографического словаря? Вот напишу Евгению Дмитриевичу об этом. Хотелось бы поучаствовать.
О планах возвращения. Право, затрудняюсь сказать что-либо. ...Тут для меня самое плохое будет, когда напишу Халтурина, и окажется, что все вятские материалы израсходую, а накапливать их трудно в этих условиях — ведь в Герценовскую библиотеку не пойдёшь, в Москву так просто не поедешь. Так что пока живу идеей Халтурина, а далее — вопрос. Мне бы хотелось взять и написать вятскую ссылку, благо материал частично имеется у меня (конечно, не касаясь социал-демократических сюжетов) — только разночинский период. Тут у нас много напутано, ссылка подчас преувеличивается в её воздействии на местную жизнь, цифровая сторона никуда не годна, кочует миф со времён Соболева и Эммаусского. А эсдеками пусть кто-нибудь вроде Козодоева занимается, у тебя, полагаю, тоже рвения нет. На нас хватит более ранних времён. Вообще, напиши, кто из новых-то есть интересующихся Вяткой? Когда я выступал на четверге у Кокуриной — были какие-то молодые, неизвестные. Но что они, кто они — не знаю. Как дела в краеведческом музее, возможно, будет тебе посмотреть верещагинские бумаги? Там, наверно, много интересного.
На лето планирую приехать в Вятку, посидеть в архиве, библиотеке, пообщаться с истыми вятчанами. Вероятно, числа с 12 июля по конец сентября. Вот таковы вятско-камчатские дела. Тут наша кафедра взялась за учебное пособие по Камчатке. Мне дали ХIХ век. Придётся делать, но хочу с наименьшими затратами времени и усилий. Страниц
Ну, будь здоров, пиши исследование «От Вештомова до Луппова», с тем, чтобы кто-либо потом навалял продолжение «От Эммаусского до Кирюхиной». Не будет ли какой большой конференции в Вятке, подобно той, что была — не знаю названия, ты писал — межвузовская. Это просто для того, чтобы меня не склоняли по науке, а то в реалии за все камчатские годы — две статейки и то в «Блокнотах» кировском и камчатском, а мне на доцента надо подавать.
1985
Дорогой Виктор Аркадьевич!
Хороший у меня сегодня день: получил сразу два письма — от тебя и Евгения Дмитриевича.
О Верещагине что могу сказать? Я как-то до Камчатки начал составлять библиографию о нём, не очень глубоко, что на поверхности лежало. Да, видимо, в Вятке находится она. Приеду — отыщу. Могу только сказать об атмосфере учебных заведений, где ему приходилось работать, не более. У меня он как-то не проходил. Вероятно, будет ценным посмотреть найденные недавно в Нолинске его бумаги. Представляется он мне типичным «шестидесятником», конечно, формирование его как преподавателя шло так же, как у Рождественского и Красовского, словом — он из категории «пионеров гуманистической пропаганды», по словам Герцена. Я многое теперь забыл, но где-то он встречался с Ключевским. Нет, ей-богу, сказать нечего. Насчёт фона шестидесятых — семидесятых годов, на котором он действовал, и более позднего времени — хорошо ведь у Евгения Дмитриевича написано. Самое главное всё же — его нолинские бумаги, говорят, много их.
Ясно, что ты не ко двору на своей родимой кафедре. Что им до Вештомова и Верещагина. Да, о Вештомове: в экспозиции музея давно в моё время была рукописная книга Вештомова, видимо, часть его писания. Бумага синяя, почерк соответственный. Я не знаю, рукопись им самим написана была или нет. Но теперь там всё погромили нынешние музейные Чингизханы. Вообще жаль, что миновало время Фокина в музее, жаль, ты его тоже не застал. Это же была у него в фондах Вятская Академия, кто только не заглядывал в подвал к нему. Но всё в прошлом. Нынешний директор более всего занят, как мне говорили, восстановлением молотовских мемориалов. Ему ли дело до Верещагина и Вештомова. Жаль, конечно, что Захаров ушёл из музея. Впрочем, ему так-то лучше, всё равно не создадут музей деревянного зодчества, а если и создадут, то не в Подрелье, как хотел Дима, а в болотине за Заречным парком...
13.12.1985
Дорогой Виктор Аркадьевич!
Как оно живётся? Чай, в отпуск скоро. Тут жизнь камчатская идёт-поскрипывает потихонечку...
Меня тут привлекли в писательскую организацию по части критики. Сходил раз, посмотрел — темнота, самомнение, помноженное на расстояние, отделяющее Камчатку от Москвы. Кормятся они какой-либо основной работой — газетчики, вулканологи, рыбаки. Пробавляются дешёвой экзотикой — бурями, штормами, пургами, извержениями вулканов, цунами и прочей ерундой.
Кое-что читаю из журналов. Жажду получить — сегодня обещали — «Дружбу народов» с «Детьми Арбата» Рыбакова.
Тут в октябре будет в Вятке юбилей —
Зонова что-то оптимистично писала о переменах в издательстве с приходом нового начальства — В. Фокина. Что он как начальство? И основан ли оптимизм. Пора стариков гнать к лешему... Печатать тебя, меня, Захарова, Семибратова.
Перелистываю пришедшего Рыбакова «Язычество Древней Руси». Лескова читаю, Фасмера смотрю.
После окончания сессии зовут поехать в Эссо — дивный край с источниками, хвойными лесами, туда самолётом, оттуда попутной машиной — 500 к[ило]м[етров]. По экзотической местности с водопадами, перевалами, обрывами пр. ...Авось соберусь.
25.05.87
Дорогой Виктор Аркадьевич!
Получил твоё письмецо с упрёком на редкие письма. Не согласен с этим. Хотя, возможно, грех был. Надеюсь — получил мои последние письма, в т[ом] ч[исле] для «Кировской правды» нечто вроде рецензии. А Фридману послал первый экземпляр. Семибратовскую заметку не знаю. А в феврале, может быть, вместо конца года меня пошлют в командировку, поскольку лимит денег выйдет к концу этого года на поездки. Мне бы хотелось в феврале быть. А впрочем, как получится.
Тут меня осчастливил внезапным прибытием на днях мой племянник из Ленинграда15 — студент Горного института — на практику явился. Пробыл два дня — бегал с устройством, а затем улетел на вертолёте на место практики — километрах в тридцати от Долины Гейзеров. Вот — тут семь лет прожил — какая Долина Гейзеров, а надо геологом быть.
Вчера просидел весь день на выборах. Умаялся. Сегодня к часу пойду — на две пары.
Надо мною сгущаются тучи — возможно, уйдёт и уедет с Камчатки теперешняя зав[едующая] кафедрой. Окромя меня, никого на это место не имеется. Похоже, если так будет — начнут меня тягать. Но буду стоек — в противном случае пригрожу увольнением. Твёрдо намерен не соглашаться, однако настроение моё попортилось. Паскудно начальствовать. Тем более будет новый ректор, с которым у меня контакта, чувствую, не будет. Словом — стоять на своём — сам не хочу, а дело замены на заведование — пусть решают вверху. Но может и обойдётся — останется. Ей год до камчатского пенсиона — работать-то на материке, понятно, будет, но на всякий случай — надо, ежели всего-то год. Да есть у неё и другие соображения. А год бы прожила — и там нашёлся бы человек. А будет, конечно, скандал, но упрусь рогом. Может, это и послужит поводом возвращения. А уж на родине не пропаду. Тем более что историю КПСС теперь можно преподавать достойно...
Тут дикая жара, усугубляемая океаном — отсюда влажность. Давно не было ни дождика. Хотя жара не так, что ежели по материковски. Но
Прочёл в «Москве» (№ 5) о проблемах сохранения центра столицы. Крушат ведь, пуще прежнего.
Бродель — это хорошо, я его листал у приятеля-медиевиста. Вот на почту идти надо — пришёл Марк Блок и Эразм Роттердамский, а в нём — приятель уже получил — много текстов Лютера.
Замысел благородный, но трудный.
У меня тут вот какая задумка. Я с младых лет увлекался географическими путешествиями. Даже неудачно поступал после школы на географический факультет в Казанский университет. Эта склонность не прошла. Оказавшись на Камчатке, всё время волей-неволей читаю подобное — к пособию по истории Камчатки, в частности. Словом — Сергей Марков и ему подобные. Хотя ясно: Сергей Николаевич — голова и неповторим в этом плане.
Так вот, такая идея — кое-где в областях и союзных республиках выходят книжки по теме — исследователи и путешественники, уроженцы края. Так вышла книжка в Минске, посвящённая уроженцам Белоруссии — путешественникам (они, кстати, и поляков притянули, если родились там). Так вот, вырисовываются люди — Филипп Ефремов, братья Василий и Тимофей Шмалевы, Никита Шалауров (все трое исследователи Северо-Востока, я о них в «Кировской правде» писал16). Это только кого знаю, а ведь мало ли что — как в частушке поётся:
Сам я вятский уроженец,
Много горюшка видал —
Всю Рассеюшку объехал,
Даже в Тюрции бывал.
Из XIX века — не знаю — но найдутся, а в конце века — Николай Аполлонович Чарушин был с экспедицией Потанина в Монголии — фотографом. И как будто кто-то был чуть ли не у Седова.
Во всяком случае, Ефремов, Шмалевы и Шалауров — много материала. И о Чарушине найдётся. Кое-кого знаю, но плохо о нескольких вятчанах — лишь по библиографии. А ведь Ефремов — личность вроде нижегородского Василия Баранщикова (о нём есть книга Штильмарка).
Это ты меня взбудоражил Костровым, дорогой мой. На Ефремова отдельной книжки не выйдет: что само описание путешествия, кроме того — почти ничего. По Шмалевым — богатейший материал — есть и в ЦГАДА. Они информировали Миллера, слали ему свои материалы, которые он клал в свои портфели. Есть кое-что и о Шалаурове. Только вот привязка вятская слабая — всё урвав с малой родины, не возвращались туда, и были обязаны ей лишь физическим рождением.
22.06.87 — эк, дата-то какая!
Дорогой Виктор Аркадьевич!
Жизнь такова — отсидел на вступительных. Где он, Христос, изгоняющий торговцев из храма? В данном случае просвещения. Осталось ещё десять дней до 1 сентября, а там — снова работа. Сижу, читаю, выползаю в природу... Что весьма полезно. В прошлую субботу прошли километров 15 по хорошей местности, срывая по пути жимолость, было кое-что и из грибов. Что чрезвычайно ценно — прямо от дома.
Кстати, знаешь, вышел Лунин — письма (ред. Эйдельмана и Желваковой)17. Товарищ прислал Хлебникова (так, не очень книжка). Да вот есть ли у тебя «Ленинградский каталог» Гранина18. Изумительная вещь. Если нет — пришлю. Это так и надо писать — быт, в данном случае [19]30-х годов, т[о] е[сть] гранинское ленинградское детство — реалии быта и вообще жизни — какие были примусы, что такое коммуналка, разные галстуки, запонки, одёжа и пр[очее], и пр[очее]. Читаю, что попадает из журналов, но хаотично. Как бы щель не прикрылась.
Статейку твою о серии по нечерноземным губерниям тоже прочёл. Всё путём, так и надо.
Я писал, что посылал кое-что для Халтуринского музея19, на днях ещё кое-что им подбросил. Прочёл в «Вопросах литературы» письма Юрия Трифонова своим адресатам, и в частности, Н. А. Троицкому, по поводу «Нетерпения», и дико обрадовался тому, что мысли Трифонова созвучны моим размышлениям о Халтурине и других связанных с ним людей. Просто маслом по сердцу были его слова, что Пётр Алексеев ему, Трифонову, малоинтересен. Что его не трогают Обнорский и тот же Алексеев. О Халтурине он совсем по-иному говорит. Всё дело в том, что Халтурин — интеллигент, потому он и в «Народную волю» органически вошёл. Он равно и рабочий-революционер, и народоволец. И ещё непонятно — кто он более. А те — только рабочие-революционеры.
Не скажешь ли, когда выйдет «Вятка» — в третьем или четвёртом квартале. Если в третьем — то это сейчас где-то, а если в четвёртом, то в конце года. Мне охота послать Халтурина Троицкому для продолжения с ним контактов, которые были давно, но прервались, и есть кое о чём спросить.
24.08.87
Примечания
1Кировский государственный педагогический институт им. В. И. Ленина. – Примеч. ред.
2С 1957 по 1991 год – Московский областной педагогический институт им. Н. К. Крупской, ныне Государственный институт просвещения. – Примеч. ред.
3Вахрушев Иван Семёнович (1938–2003) – кандидат исторических наук, доцент, работавший в Кировском государственном педагогическом институте им. В. И. Ленина, а затем в Камчатском пединституте, предложивший поработать на Камчатке В. Д. Сергееву в 1980 году. – Примеч. ред.
4Шапанов Валентин Павлович – кандидат юридических наук, приехавший из г. Кирова вместе с В. Д. Сергеевым на Камчатку, в то время старший преподаватель Камчатского государственного педагогического института. Он же далее: Валентин Палыч. – Примеч. ред.
5Ныне Камчатский государственный университет им. Витуса Беринга. – Примеч. ред.
6Ныне Камчатская краевая научная библиотека им. С. П. Крашенинникова. – Примеч. ред.
7Ныне Екатеринбург. – Примеч. ред.
8Краеведческий сборник «Вятка», составляемый Г. П. Зоновой, выпускаемый Кировским отделением Волго-Вятского книжного издательства. – Примеч. ред.
9Патрушев Василий Афанасьевич (1929–1988) – ректор Кировского государственного педагогического института им. В. И. Ленина с 1979 по 1988 год. – Примеч. ред.
10В библиографии В. Д. Сергеева под этим заглавием есть две публикации: За землю и волю / В. Сергеев // Кировская правда. 1986. 29 мая ; За землю и волю : к 130-летию отмены крепостного права / В. Сергеев // Кировская правда. 1991. 7 мая (Сергеев, В. Д. История Вятского края в персоналиях / В. Д. Сергеев ; сост., науч. ред.: В. А. Бердинских, А. В. Сергеев ; редкол.: Н. П. Гурьянова (рук. проекта) [и др.]. Киров : Кировская областная типография, 2015. С. 374, 376. (Культурное наследие Вятки ; вып. 7)). Вероятно, идея о выходе одноимённой книги так и не была осуществлена. – Примеч. ред.
11Предположительно, речь идёт о книге Г. Ф. Чудовой «В те далёкие годы: очерки по истории краеведения Вятской губернии» (Киров : Волго-Вятское книжное издательство, Кировское отделение, 1981. 159, [1] с. : ил., портр.). – Примеч. ред.
12Матлина (Халфина) Софья Моисеевна (род. 1927) – заведующая отделом гуманитарной литературы (1953–1983). – Примеч. ред.
13Он же Вахрушев Иван Семёнович. – Примеч. ред.
14Сергеев, В. Д. Разночинцы-демократы Вятки / В. Д. Сергеев ; Моск. гуманит.-экон. ин-т, Киров. фил. Киров : [б. и.], 2003. 157 с.
15Ныне Санкт-Петербург. – Примеч. ред.
16Речь идёт о статьях: Сергеев, В. Из рода колумбов российских // Кировская правда. 1982. 9 февр. ; Он же. Братья-землепроходцы // Кировская правда. 1984. 8 авг. – Примеч. ред.
17Речь идёт о книге: Лунин, М. С. Письма из Сибири / изд. поготовили И. А. Желвакова, Н. Я. Эйдельман ; [АН СССР]. Москва : Наука, 1987. 492, [3] с., 9 л. ил. (Литературные памятники). – Примеч. ред.
18Речь идёт о книге: Гранин, Д. А. Ленинградский каталог / Оформ. и рис. Г. Никеева ; фото А. Короля. Ленинград : Детская литература, 1986. 111 с., ил. – Примеч. ред.
19Ныне Орловский краеведческий музей. – Примеч. ред.
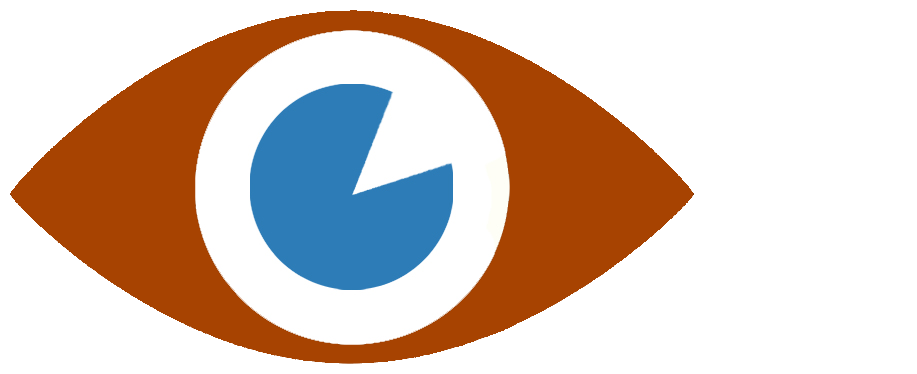 Версия для слабовидящих
Версия для слабовидящих