Читаю дорогие строки,
сквозь годы слышу голоса...1
Л. В. Осокин
Я долго колебался, прежде чем взяться за перо, потому что в данном случае предметом моего описания становились личные реликвии, а реликвиями, как известно, в переносном смысле являются любые «особо чтимые, дорогие по воспоминаниям вещи», часто «оставшиеся после известных, уважаемых или любимых людей».
У каждого свои реликвии, связанные с прошлым. Часть моих реликвий, о которых мне хотелось рассказать, связана с книгами, но они, чаще всего, не библиографические редкости. Их значимость в другом — в автографах: в посвятительных и дарственных надписях, сделанных на книгах для автора этих строк по различным жизненным поводам. Отсюда и родилось название предлагаемых заметок «Читаю дорогие строки, сквозь годы слышу голоса».
В третьем издании (Москва, «Книга», 1988) увлекательно написанных и нужных рассказов о книгах и книжниках «Власть книги» О. Г. Ласунский в рассказе «На память об авторе» писал: «Теперь экземпляр с посвятительной надписью автора ценится особо. Да и как иначе: ведь каждое прикосновение писательского пера делает книгу уникальной, выделяет её из всего остального тиража. Для библиофила она — предмет вожделенной страсти».
Но я не библиофил и описанные ниже книги с авторскими дарственными надписями из моего чрезвычайно скромного собрания — не «предмет вожделенной страсти», они просто очень дороги мне, как память о незабываемых встречах на различных этапах жизни. Подобных книг могло скопиться значительно больше за мою весьма долгую творческую жизнь, но я никогда не стремился специально получить автограф при любых обстоятельствах и потом похваляться им, нет, повторяю, для меня книги с автографами и дарственными надписями были и остаются светлой памятью «на всю оставшуюся жизнь».
«Память, — пишет в своей книге „Моя профессия“ С. Образцов, — может ошибиться в фактах, но она никогда не врёт. Она чётко записала ваши ощущения, и выдумать лучше неё вам вряд ли удастся. Мало этого, память проделала за вас большую работу и не только откинула ненужное, но ещё пересортировала воспринятую вами жизнь».
Думается, что записанные здесь воспоминания, базирующиеся на документальных данных, будут небезынтересны многим, ведь они касаются как известных, так и мало известных деятелей литературы и искусства, и поэтому каждый сможет найти в них интересное для себя.
Восьмого мая 1992 года телевидение принесло печальную весть: скончался всемирно известный кукольник Сергей Владимирович Образцов — великий мастер своего дела, неповторимая ярчайшая личность, один из моих учителей!
На моих полках есть несколько увлекательно написанных им книг, но одна из них, небольшая и тоненькая, адресованная детям, выпущенная издательством «Малыш» в 1970 году — «О том, как в ледяной пустыне родился маленький пингвин. О том, какие у него были приключения. О том, как он вырос и стал большим, рассказывает Сергей Образцов...» — мне особенно дорога.
Книга написана по мотивам документального кинофильма, созданного С. Образцовым и оператором А. Кочетковым (он же автор превосходных фотоиллюстраций). Вспоминая о работе над фильмом, Образцов писал: «Великолепные кадры с намеченным сюжетом мне очень понравились» — и далее: «Я монтировал, думая о том, что я буду говорить, и рассказывал в микрофон, глядя на экран». Этот частично импровизированный, впоследствии застенографированный и отредактированный рассказ и стал текстом книги — необыкновенно привлекательной и доброй. На обороте мягкой обложки Сергей Владимирович написал: «Льву Васильевичу Осокину на память о сегодняшнем дне с самыми лучшими пожеланиями. С. Образцов 20/VI.70 г. Дача».
В тот июньский день я был приглашен на дачу (приписка ручкой: во Внуково. — Примеч. ред.) к Образцовым вместе со своими товарищами — слушателями Высших режиссёрских курсов Министерства Культуры РСФСР при ГИТИС им. Луначарского — так же учениками Сергея Владимировича. Занятия на курсах подходили к концу, и наш мэтр решил доставить нам особое удовольствие, пригласив в гости. Не могу не остановиться на этом событии и хотя бы вкратце не рассказать о нём.
Посещение дачи, да простят мне читатели затасканную фразу, произвела на нас неизгладимое впечатление. Дачу, по словам самого Сергея Владимировича, он приобрёл, продав имевшуюся у него картину Пуссена, а его сын-архитектор, основательно перестроил здание в соответствии с требованиями нового владельца. Чудеса начались, едва мы вошли в ворота дачи к двухэтажному дому по тропинке, ведущей через изумрудную лужайку, которую, несмотря на наличие двух живущих при даче и обслуживающих её садовников-сторожей, предпочитает подстригать машинкой сам хозяин. Встречая нас, он с трудом удерживал огромного сенбернара по кличке Бозар (подарок директора бельгийского Музея изящных искусств2), норовившего ухватить двух женщин, входивших в нашу компанию. Оказалось, что этот пёс не любит женщин, с трудом контактируя с женой Сергея Владимировича и их домработницей, готовящей ему еду. В дальнейшем, в холле первого этажа, нам даже пришлось усадить женщин в угол и так придвинуть к ним стол, чтобы Бозар не мог достать их во время ужина. Принимая нас, Сергей Владимирович много рассказывал о своих многочисленных странствиях, показывал различные заморские сувениры, привезённых со всего света невиданных нами экзотических рыб в аквариуме, сказочно красивых голубей (вместе с ним мы поднимались в башню-голубятню), замечательно пел старинные романсы и русские народные песни. Покидая гостеприимных хозяев, я и решился попросить Сергея Владимировича надписать недавно вышедшую книгу.
Есть у меня и другая реликвия, связанная с именем Образцова, и хотя это не книга, я не могу не рассказать о ней: это тридцать девять листов рабочих рисунков, так называемых почеркушек (в просторечии), сделанных Сергеем Владимировичем в процессе занятий с нами в 1969—[19]70 годах. На пожелтевших от времени листах карандашом, авторучкой, шариковой ручкой, что попадало под руку — наброски из поставленных Образцовым мизансцен, декораций, кукол, технических приспособлений, наглядно иллюстрирующих его рассказ.
Я был тогда старостой группы его учеников режиссёров-кукольников и, пользуясь своим «положением», после каждого занятия забирал себе эти рисунки. К сожалению, я постеснялся просить мэтра подписать их, но знающие художнический почерк Образцова без труда подтвердят их подлинность, да и мои бывшие сокурсники, предоставлявшие мне эту «привилегию», В. Вольховский, В. Казаченко, Л. Устинов, А. Горелов и другие, могут подтвердить данный факт. Мне же эти рисунки дороги и без подписи, особенно сейчас, когда не стало незабвенного Сергея Владимировича.
Другим незабвенным человеком, тоже из моих замечательных учителей, была добрейшая Ленора Густавовна Шпет, преподававшая теорию драматургии театра кукол. Это она пригласила в своё время Образцова руководить Центральным театром кукол3 и прошла рядом с ним весь свой творческий путь, была для него (а о нас и говорить не приходится!) непререкаемым авторитетом в области детского театра.
Даря мне своё фундаментальное исследование «Советский театр для детей», изданное издательством «Искусство» в 1971 году, Ленора Густавовна писала: «Милому моему ученику Льву Васильевичу Осокину на добрую память о его „учительнице“ Л. Шпет 15.IX.971», а на первом выпуске сборника пьес для театра кукол «Хоровод кукол», составителем которого была Ленора Густавовна, она написала: «Дорогому Льву Васильевичу на память о наших „драматургических беседах“ Ленора Шпет 3.ХII.69. Москва».
Прошло много лет с момента окончания Высших режиссёрских курсов, давно нет Леноры Густавовны (она умерла в сентябре 1976 года), но самая светлая память о ней жива и будет жить очень долго, я думаю, не только у меня, а у каждого, кто имел счастье с ней общаться, быть её учеником. Много незаслуженно выстрадав на своём веку (достаточно сказать, что она была дочерью опального профессора Густава Густавовича Шпета, женой актёра Владимира Вальтера — немца по происхождению, и тёщей Бориса Леонидовича Пастернака), Ленора Густавовна всегда принимала близко к сердцу боль другого человека. Узнав о моих неприятностях в Саратовском театре кукол, Шпет писала в письме от 28.IV.1974: «Дорогой Лев Васильевич! Спасибо за привет к
Но снова обратимся к книжной полке, где наше внимание непременно привлечёт небольшого формата, в чёрном переплёте, книга Ю. Кагарлицкого «Герберт Уэллс». Признаться, я не поклонник творчества Уэллса. Только «Человек-невидимка», по словам Кагарлицкого, «самый популярный „роман“ писателя, его „блестящий успех“», наиболее любим мною. А вот книга Кагарлицкого о жизни и творчестве Герберта Уэллса, отличающаяся их глубоким анализом, изложенным живым доступным языком, мне представляется, несомненно, интересной.
На Высших режиссёрских курсах Юлий Иосифович Кагарлицкий, поражая своей эрудицией, читал историю западно-европейского театра и драматургии. Как-то незаметно у нас с ним установились очень добрые отношения. Следствием их и является автограф на книге: «Льву Васильевичу Осокину от автора, имевшего честь читать перед им лекции на ВРК Ю. Кагарлицкий».
В этой шутливой надписи зафиксировалась одна из характерных черт Юлия Иосифовича, по-моему, не покидающая его и в трудную минуту — юмор — черта, свойственная, увы, далеко не многим.
До сих пор я представлял автографы известных деятелей искусства и литературы, отдав им заслуженный приоритет, а сейчас я хочу представить автографы не выдающихся, но не менее ревностных деятелей (считаю, что они выстрадали право на упоминание), чьё творчество не получило должного признания скорее не из-за отсутствия таланта в должной степени, а из-за непредставившегося случая, из-за неблагоприятно сложившихся обстоятельств, которые, как известно, часто бывают сильнее человека, особенно в условиях порочной государственной системы, то есть того самого, что значительным образом определило и мой жизненный финиш. Только порвав свою финишную ленточку раньше времени и не по своей воле, я все ещё продолжаю бег.
На моей книжной полке, среди больших по формату книг, примостилась совсем маленька[я], выпущенная Сталинградским книжным издательством в 1960 году: Артур Корнеев «Я вырос в рабочем посёлке». На титульном листе надпись: «Льву Васильевичу Осокину, талантливому актеру, на дружбу. Артур Корнеев 20.III.61 г».
В предисловии к книге известный советский поэт Лев Ошанин писал: «...особое место занимал молодой сталинградец, бывший слесарь одного из сталинградских заводов — Артур Корнеев. Пожалуй, со времени Василия Казина не входил в нашу поэзию поэт, так целиком посвятивший своё творчество ра[бо]чему классу. И, может быть, среди многих первых книг молодых поэтов эта книга одна из наиболее цельных».
Я не литературовед и не берусь рецензировать первую книгу поэта, да ещё изданную более тридцати лет назад, но мне она нравилась и нравится своей искренностью, безыскусственностью, что порой бывает привлекательней «отточенного мастерства». Потом были у Артура и другие книги, но первая книга, как первая любовь, всегда памятна и особенно дорога и автору, и его друзьям. Со временем окреп и развился поэтический дар Артура, расширилась тематика стихов. Мнение Ошанина относительно творчества Корнеева во многом подтвердилось, в частности: «Влюблённость в поэзию и требовательность к себе, то, что поэт после окончания института вернулся в родной Сталинград, наконец, сами стихи — всё это заставляет меня верить в будущее молодого поэта». Вот только на счёт последних строчек цитаты хочется заметить, что будущее Артура Корнеева (теперь — настоящее) могло быть при более благополучных обстоятельствах разумеется, значительнее, чем признание в родном городе. Хотя и этого удостоились далеко не все литераторы...
К Сталинградско-Волгоградскому периоду моей жизни относятся и две другие книги. Их написал и впоследствии подарил мне волгоградский детский писатель Юрий Мишаткин, безвременно ушедший из жизни. Тогда это был обаятельный молодой человек, полный жизни и интереснейших творческих замыслов. Книг он написал довольно много и издавались они не только местным издательством, но и центральными, охотно раскупались и пользовались значительным успехом у детей. Однако длительная тяжёлая болезнь постепенно подтачивавшая его здоровье, помешала Мишаткину осуществить многое из задуманного, а хлопоты, связанные с публикацией его книг, отнимали у него последние силы.
Сейчас имена В. И. Ленина, С. М. Кирова и других выдающихся коммунистов стали одиозными, и многие открещиваются от своих произведений, связанных с этими именами. Мне кажется, будь жив, Юра не отказался бы от своих рассказов о них, потому что он глубоко верил в эти личности подобно многим и считал, что дети должны знать о них как можно больше. Вот и мне он подарил первую книгу «Три рассказа о Ленине», изданную в 1962 году Московским издательством «Детский мир», на титульном листе которой написал: «Детскому актеру и режиссеру Лёве Осокину в памятный для него день 27.ХII.63 от детского писателя, который как и ты, Лёва, не стесняется, что он детский, а наоборот. Юра Мишаткин. Волгоград, 27.ХII.63».
Памятный день, о котором упоминает Мишаткин — это
Вторая книга, подаренная Мишаткиным, «Львы засыпают на рассвете», изданная в Волгограде в 1969 году, имеет автограф: «Льву Осокину — старому моему другу с верой и надеждой, что наша совместная работа для его театра выйдет за пределы Саратова. И постановка, и пьеса. Да будет так, амэн! автор Юр. Мишаткин. Волгоград. 20.XII.72». В это время мы с Мишаткиным работали, точнее — превращали в пьесу для театра кукол мой сценарий по сказке М. Ю. Лермонтова «Ашик-Кериб», написанный ещё на Высших режиссёрских курсах и одобренный Л. Г. Шпет и С. В. Образцовым.
Пока шла работа (по переписке) над «Ашик-Керибом», Мишаткин предложил мне для постановки свой новогодний сценарий «Наша ёлка высока». Сценарий понравился мне, и 26 декабря 1972 года его премьера состоялась в фойе Саратовского театра кукол «Теремок». В те годы я был его главным режиссёром. Представление имело успех и продержалось в репертуаре два года. Я был не только его постановщиком, но и исполнителем роли Деда Мороза.
Несмотря на то, что к моменту работы над «Ашик-Керибом» у Мишаткина уже был некоторый опыт работы в драматургии для волгоградских театров, наши обоюдные надежды на соавторство не оправдались: из-за принципиально разного подхода к пьесе работу пришлось прекратить, что никак не повлияло на наши дружеские отношения, а «Ашик-Кериб» так и остался сценарием без диалогов, увы...
В 1972 году я неожиданно получил из Ялты письмо от довольно известного в те года драматурга театра кукол и детского поэта Семёна Абрамовича Когана с предложением к постановке своих пьес и аннотации к ним. Из-за различных административных препонов авторы вынуждены были сами как-то «пристраивать» свою «продукцию». Меня наиболее заинтересовала одна из предложенных пьес, и я без промедления дал знать об этом Когану. Вскоре, в письме от 15 апреля 1972 года, он сообщил: «Уважаемый Лев Васильевич! Высылаю Вам обещанную пьесу „Со мной мои друзья“ („Друзья маленькой Кити“)... Она получилась довольно приличной...» Однако меня в ней далеко не всё устраивало, и я настаивал на авторских переделках. Так между нами началась деловая, с оттенком дружеских отношений, длительная переписка. Следствием последнего и явилась полученная в подарок книжечка стихов для детей «Что такое зима?», изданная в 1968 году Западно-Сибирским издательством, с дарственной надписью: «Льву Васильевичу на добрую память от автора. С. Коган, г. Ялта, 1972 г.». Написанная доходчивым, доступным для дошкольников языком, с запоминающимися стихами, да ещё хорошо изданная с красочными иллюстрациями, книга сразу понравилась двум моим сыновьям (теперь книга нравится внуку), о чём я не преминул сообщить автору. В ответном письме от 21 апреля 1972 года Коган писал: «Дорогой Лев Васильевич! Я очень рад, что Вам и Вашим ребятишкам понравилась моя книга. Это приятно». И далее: «Очевидно к приходу этого письма, Вы уже получите и „Кити“ (с поправками. — Л. О.). Меня очень интересует, как Вы отнесетесь к этой пьесе. Вдохновит ли она Вас? Мне посчастливилось видеть уже три постановки её (в первоначальном варианте. — Л. О.)». Исправления устроили меня и необходимое в работе вдохновение снизошло ко мне, однако моему желанию поставить «Друзей маленькой Кити» не суждено было осуществиться из-за окружающей косности, хотя на словах все были (приписано сверху ручкой. — Примеч. ред.) «за поиск, за эксперимент». Не надо думать, что главный режиссёр в театре всегда «царь и бог». Очень часто, особенно если он не обладает почему-либо необходимыми «борцовскими» качествами, он превращается в лицо страдательное и не имеет возможности осуществить свои замыслы.
Лишь в 1974 году мне удалось снова обратиться к творчеству Семёна Когана и поставить со своими учениками — руководителями самодеятельных театров кукол — другую пьесу Семёна Когана, написанную им в соавторстве с Виктором Орловым, «Весёлый маскарад». Спектакль получился удачным, и я рад был, что хоть одна пьеса Когана увидела свет рампы в Саратове.
Семён Абрамович Коган прожил недолгую жизнь: туберкулёз, из-за которого он жил в Крыму, оборвал её, оставив незавершёнными многие пьесы и стихи. Детвора потеряла истинного друга, отдававшего ей свою прекрасную душу. Я думаю, лучшие стихи Когана и сейчас могли бы переиздаваться, а пьесы идти на сцене.
Когда детскому театру отданы многие годы, неудивительно, что творческие общения чаще всего происходят с людьми, посвятившими свою жизнь, свой труд и вдохновение детям.
Меня издавна привлекали и привлекают своей свежестью, оригинальностью пьесы Геннадия Цыферова и Генриха Сапгира. Ещё в 1968 году я поставил в Кировском театре кукол5 их пьесу «Хочу быть большим», имевшую прочный успех у зрителей и непрочный у театральной администрации, а в 1970 году в Саратове с большим успехом прошла премьера спектакля «Ты — для меня». Но очное знакомство с Генрихом Вениаминовичем Сапгиром состоялось лишь в 1974 году, уже после совершенно преждевременной смерти от сердечной болезни Геннадия Цыферова. С его смертью Сапгир потерял настоящего соавтора и всё, что впоследствии было написано без него, было значительно ниже. «Лесной барабан» — их последняя пьеса, начатая вместе и законченная Сапгиром уже после смерти Цыферова.
«С дружеской приязнью в память о нашем знакомстве Льву Васильевичу Осокину — 5/Х.74 Генрих Сапгир», — авторская дарственная надпись, сделанная на титульном листе пьесы «Лесной барабан», изданной Отделом распространения драматических произведений ВААП в 1973 году.
Но и к «Лесному барабану» — пьесе о значении музыки в жизни человека — саратовские кукольники остались глухи. Горько, а именно к ним адресуются слова героя пьесы Зайца-музыканта, сказанные о лесных обитателях-обывателях: «Как же так? Я же не хотел с ними ссориться. Но разве можно жить без музыки? Как они не поймут этого?» Так, «Лесной барабан» не был принят к постановке и стал на полку, пополнив кладбище моих нереализованных творческих замыслов, как и его сосед «Гиньоль в Париже» — пьеса польских авторов Яна Оснипы и Яна Вильковского в переводе Сергея Ефремова и Семёна Когана, также изданная Отделом распространения ВУОАП (Всесоюзного управления охраны авторских прав).
О Семёне Когане я уже писал. Другой переводчик — Сергей Иванович Ефремов — один из моих самых давних друзей. Ещё в юности, будучи молодыми актёрами, мы встретились с ним в 1956 году и дружим до сих пор, хотя Сергей Иванович теперь живёт за рубежом, на Украине. Он прекрасно знает украинский (заслуженный артист Украины), польский и чешский языки, что позволяет ему успешно сочетать деятельность переводчика с режиссёрской и актёрской работой. Переведённые им пьесы шли во многих театрах кукол Советского Союза. В его переводах я удачно поставил «Украденный мяч» в Волгограде, «День Кутясика и Кутилки» в Кирове, «Голубой щенок» в Саратове, а вот «Гиньоля в Париже» поставить в Саратове не удалось и сыграть роль Жана, чрезвычайно подходящую для меня, тоже, хотя Ефремов и написал на подаренном экземпляре пьесы: «Дорогому другу Лёве с большим желанием видеть этот спектакль в его постановке и с его личным участием в роли Жана. Москва 14 октября 69 г. С. Ефремов». В то время я учился у Образцова, а Ефремов приезжал по своим делам в столицу и подарил мне пьесу.
Другой автограф Ефремов оставил на присланном из Киева сборнике пьес «для самодеятельных кукольных театров» «Пионерский театр», где напечатана написанная им вместе с Коганом своеобразная вариация на тему известной сказки Ш. Перро «Красная Шапочка». В версии Когана и Ефремова она называется «Ещё раз о Красной Шапочке». Имея в виду первую не ВУОАПовскую публикацию. Сергей Иванович написал на сборнике, изданном московской «Молодой гвардией»: «Лёве на память о своем первом издании в честь дня рождения и дружбы. Сергей Ефремов. Киев, сентябрь 1980 г.». Такой мне был сделан подарок к
Пьеса «Ещё раз о Красной Шапочке» много шла на профессиональной и самодеятельной кукольной сцене. Из виденных постановок мне наиболее понравились: на профессиональной сцене — постановка С. Ефремова в Одесском театре кукол6, на самодеятельной — постановка моей ученицы Т. Музыкантовой в Саратовском клубе «Знамя труда».
Ещё в 1967 году, когда я поставил в Кировском театре кукол пьесу-сказку «Чуче» началась моя дружба с её автором Михаилом Семёновичем Андреевым, оказавшимся не профессиональным драматургом, а руководителем самодеятельного театра кукол из города Сельцо Брянской области. Мне много приходилось общаться с руководителями и актёрами самодеятельных театров, но такого одержимого и неутомимого энтузиаста самодеятельного искусства, столь разносторонне одарённого человека как Михаил Семёнович, я ещё не встречал. Четверть века интенсивной и интереснейшей переписки, обмен публикациями, фотографиями постановок, программами, афишами, сделали нашу жизнь более насыщенной.
На одном из своих последних изданий — оригинальной и довольно увлекательной пьесе для театра кукол «Несравненная сила, или История в Филимонии» (Москва, ВААП — Информ, 1985), Михаил Семёнович написал: «Дорогому другу Льву Васильевичу с чувством глубокого уважения, пожеланием немеркнущего успеха в творческой жизни и на добрую память. М. Андреев 3/VIII-85 г. г. Брянск».
«Несравненная сила» лежит в моём творческом «портфеле» и я ещё не потерял надежды на постановку этой весьма сложной, своеобразно использующей фольклорные мотивы, пьесы своего друга. Тем более что у меня хранятся интересные авторские комментарии и пожелания Андреева, могущие существенно помочь в постановке.
А этот шутливый автограф оставила на обратной стороне форзаца очередного и последнего (вскоре она умерла), составленного ею «Песенника» моя тётка Ольга Николаевна Ложкина: «На память от автора. Пой, Левушка, распевай и меня вспоминай! Твоя Кока, она же составитель этого „творения“. — О. Ложкина. — IV—1963 г.».
Составленный ею миниатюрный по формату, но объёмный сборник (более 400 страниц) был на редкость хорошо издан в Кирове и пользовался, скажу без ложной родственной скромности, большим и заслуженным успехом: подбор песен для своего времени был в нём замечательным. В свой скромный труд составительницы песенников О. Н. Ложкина вкладывала недюжинную музыкальную эрудицию и отменный вкус.
Следующий автограф тоже связан с Кировом — это самый первый автограф в моем собрании, впрочем, когда он у меня появился, ни о каком собрании, особенно в то время, я и не помышлял. Издание этой книги состоялось в Ленинграде в 1933 году, а издал её ныне не существующий театр кукол под руководством Ю. П. Ниве к пятилетию своего существования. Сборник статей так и называется: «Театр кукол.
Другой автограф Г. К. Крыжицкий оставил на подаренном мне путеводителе по музею Центрального театра кукол С. В. Образцова, изданном в 1940 году. И хотя издание «Музей театральных кукол» никак не связано с именем Крыжицкого, я всё-таки хочу представить дорогой мне автограф: «Будущему режиссеру и драматургу кукольного театра Леве Осокину на добрую память. Г. Крыжицкий. 22/VI.46 г. г. Киров». Память о Крыжицком у меня осталась самая добрая на всю жизнь, тем более что его предсказание почти полностью сбылось.
Г. К. Крыжицкий написал много книг по вопросам театрального искусства. В последней из них — «Дороги искусства», — изданной в Москве Всероссийским театральным обществом в 1976 году, Георгий Константинович с большой теплотой описал свою недолгую, но плодотворную работу в Кировских театрах. У меня эта книга без автографа...
Естественно, что у человека, проработавшего в профессиональных театрах около сорока лет, есть немало различных театральных изданий: программ, аннотаций, буклетов. С тремя последними я и познакомлю Вас, читатель.
Первый — буклет, выпущенный Оренбургским театром кукол7, в семидесятые годы одним из наиболее интересных периферийных коллективов кукольников России. Буклет открывается портретом главного режиссёра театра, заслуженного артиста РСФСР Романа Борисовича Ренца. Около портрета надпись: «С уважением и самыми лучшими пожеланиями. Р. Ренц». Автограф был сделан 10 июля 1970 года во время моей творческой командировки в Оренбург, о чём свидетельствует моя памятка в конце буклета.
Оренбургский автограф для меня не только память о добром знакомстве и просмотренных интересных спектаклях, но, главным образом, память о творческой лаборатории режиссёров театров кукол, которой руководил Роман Борисович, а я состоял её режиссёром-лаборантом, хотя это было несколько позднее.
На буклете Петрозаводского театра кукол8 «Наш театр кукол» краткая надпись: «Уважаемому Льву Васильевичу от Х. Скалдиной. 10/VI-71 г.». Христина Георгиевна Скалдина — прекрасная художница-кукольница, человек разносторонних интересов и творческих увлечений. Я высоко ценил её творчество и до сих пор сожалею, что не имел возможности поставить с ней какой-либо спектакль. В буклете X. Г. Скалдина лишь упоминается, но за свой самоотверженный и результативный творческий труд заслуживает значительно большего, хотя бы нескольких слов признательности, чем простое упоминание. Однако в каждом театре есть свои «кулисы», сень которых надёжно скрывает нежелаемое и нежелательных. Я думаю, это имело место и здесь.
Передо мной третий из представляемых буклетов, принадлежащий Ленинградскому государственному Кукольному театру9, долгие годы руководимому одним из пионеров отечественного театра кукол заслуженным артистом РСФСР Е. С. Деммени. Автограф же принадлежит его преемнику на посту художественного руководителя, заслуженному артисту РСФСР Виталию Александровичу Ильину — замечательному актёру, режиссёру, скульптору: «В знак давней дружбы с нашим театром Льву Васильевичу на добрую память. В. Ильин. 22/III-70».
Мне очень приятен этот автограф, констатирующий мою многолетнюю дружбу с замечательным коллективом, подарившим мне незабываемые впечатления от увиденных спектаклей и встреч с замечательными мастерами своего дела В. А. Ильиным, В. Г. Форштедт, Н. В. Охочинским, Г. А. Мороз, В. М. Мельник.
Одного из основателей театра, незабвенного Евгения Сергеевича Деммени, я считаю одним из своих первых учителей. Именно его книги по вопросам театра кукол я прочёл первыми, именно Деммени преподал мне ряд уроков, хотя специально не занимался со мной, не только творческого, но и этического и эстетического плана. Поэтому я был несказанно рад получить в 1986 году в подарок книгу, созданную моим другом, заслуженным артистом РСФСР Никитой Владимировичем Охочинским: Е. С. Деммени «Призвание — кукольник», да ещё с такой дарственной надписью: «Льву Васильевичу Осокину, сорокалетней дружбой с которым особенно дорожу и который, уверен, будет искренне рад этой книге, посвященной памяти нашего учителя, с уважением Охочинский Н. 13 марта 1986 г». Книгу о Деммени я частенько перечитываю, каждый раз с удовольствием погружаясь в добрые воспоминания, так согревающие душу в частые жизненные невзгоды. Но сколько бы их ни было, как долго бы они ни продолжались, всё равно им наступит конец, и жизнь, я уверен, ещё подарит мне добрые памятные творческие встречи с интересными людьми и зафиксирует их автографами на книгах.
Свои заметки мне хочется закончить так же, как я начал, словами большого знатока и замечательного исследователя и собирателя книг О. Г. Ласунского из его интереснейшей работы «Власть книги»: «Книжные дарственные надписи... Нередко именно в них и прорывается подлинное чувство, обнажается душа автора. Такие надписи — бесценный источник для исследователей. Поэтому давайте смотреть на дарственные автографы по-серьёзному, не только как на безделицу, дитя летучего случая».
[Л. Осокин]
Примечания
1Из фонда документальных источников Кировской областной научной библиотеки им. А. И. Герцена.
2Ныне Королевский музей изящных искусств.
3Ныне Государственный академический Центральный театр кукол имени С. В. Образцова.
4Ныне Волгоградский областной театр кукол.
5Ныне Кировский театр кукол имени А. Н. Афанасьева.
6Ныне Одесский академический областной театр кукол.
7Ныне Оренбургский государственный областной театр кукол.
8Ныне Театр кукол Республики Карелия.
9Ныне Санкт-Петербургский государственный театр марионеток имени Е. С. Демменни.
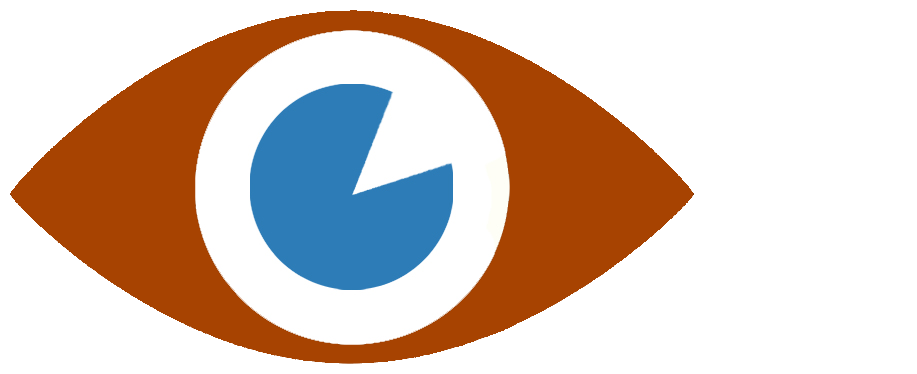 Версия для слабовидящих
Версия для слабовидящих