Человек родниковой чистоты
В. Г. Фокин
Всесоюзный «Родник»
В СССР любили стихи. Не только читать, но и писать.
Тогда мы были самой читающей страной в мире. А одной из самых читаемых газет в ней была сверхтиражная «Комсомольская правда». В 1979 году «Комсомолка» объявила конкурс читательских стихотворений под совсем не комсомольским названием «Родник».
Идея, впрочем, была родниково прозрачна: дать возможность выплеснуться на газетные страницы неиссякаемому роднику народных талантов. Неиссякаемому не образно в качестве преувеличенного символа, а фактически. Ибо на литературный конкурс «Родник» стихи шли валом со всего СССР. Обобщая его итоги, редакция «КП» озвучила цифру: «В архиве конкурса к моменту его закрытия оказалось более десяти тысяч писем, и долгое время почта ещё продолжала приносить конверты с конкурсной пометкой». Произведения победителей поэтического конкурса газеты были опубликованы в сборнике «Родник» издательства «Правда» в 1980 году. Среди 53-х авторов со всей огромной страны в этом коллективном сборнике, выпущенном тиражом в 100 тысяч экземпляров, были и двое вятских – Людмила и я. Причём любопытно и даже чем-то показательно: больше одного автора из одного города было напечатано в этой книжке только из Москвы, Ташкента и… Кирова. А уж если ещё уточнить, то пара авторов из Кирова – самые настоящие земляки, поскольку не только жили в одном городе, но и родом были из одного района – Оричевского.
Встретившись на книжных страницах, мы попросту не могли не встретиться и в жизни. Красиво звучит! Хотя, если по правде, то познакомились мы с Людмилой чуть раньше нашей общей публикации в этом сборнике. Поспособствовало знакомству радостное для меня обстоятельство – победа в 1978 году в конкурсе одного стихотворения, организованном редакцией популярнейшего молодёжного журнала «Смена». Первый номер «Смены» нового 1979 года выделил целый разворот под поэтические подборки трёх победителей, открыв его, вопреки алфавитному порядку, моей. В редакционном предисловии было указано, что я «инженер из города Кирова». Людмила сама отыскала у кого-то мой домашний телефон и, позвонив, задала первые два вопроса, которые я помню и сейчас: «Валерий, это твои стихи в “Смене” напечатаны?» – и, после моего утвердительного ответа, сразу второй: «Ты из Оричей?» И уже после второго моего подтверждения начался наш долгий разговор – тоже с вопроса: «Ты когда в оричевской школе учился?» Да, вот так – сразу на ты, по-землячески. Людина мама Антонина Александровна работала бухгалтером в Оричевском райпо. В небольшом посёлке многие знали моего отца – бывшего фронтовика, с должности директора сельского сиротского дома в Пищалье выдвинутого на руководящие посты в райисполком, а затем и в райком партии. Но Ишутиновы знали и мою маму – учительницу начальных классов в единственной поселковой средней школе. Родителям девочки, у которой уже с шести лет стали отказывать ноги, приходилось вопреки медицинским справкам доказывать руководству роно, что дочь сможет учиться вместе со всеми. Их устремления поддержали педагоги, среди которых была и моя мама. Узнав, что дочь собралась звонить мне, Антонина Александровна подсказала: «Спроси у него, была ли его мама учителем».
Людмила спросила. И не только про это. Она прямо-таки выпытывала у меня все подробности оричевского детства: когда пошёл в первый класс, где жил, с кем дружил, сколько классов окончил до отъездах с семьёй из Оричей. Сейчас у меня от нашего первого телефонного знакомства такое ощущение, будто мы с ней полдня проговорили. А выяснить до полной уверенности, виделись ли мы в Оричах, так и не смогли, ведь в школу Люда пошла почти в 9 лет и в тот год, когда моя семья ещё до 1 сентября переехала в областной центр. Так что в школе мы с ней никак не могли встретиться. Мне казалось, что я видел в посёлке девочку, которую отец носил на руках, хотя возможно это лишь отголосок чьих-то, скорее всего, моей мамы, жалостливых рассказов той поры.
Совместный дебют
Тяжёлая инвалидность с ранних лет и жестокий диагноз (миопатия — атрофия мышц) в подростковые годы определили трагическую и в то же время глубоко творческую судьбу Людмилы Ишутиновой — сопереживание другим, искренность собственных стихов и оценок. Сколько мужества стоило хрупкой девчонке постоянно преодолевать немощь и боль, чтобы обретать радость в поэзии! Она позже сама расскажет об этом в своих стихах. Некоторые метафоры полностью способен понять только тот, кто сам вынес невыносимую боль:
Забиваю боль, как гвозди,
Чтобы шляпки не торчали.
Чтоб собравшиеся гости
Ничего не замечали.
Я понимал. Хотя мы с ней после нашего телефонного знакомства встречались нечасто, поскольку в литклубе «Молодость» я не состоял и в коллективных посещениях его питомцами и руководителями Ишутиновой на дому не участвовал. Но мы постоянно перезванивались — обменивались мнениями по поводу новых книг местных авторов, часто не сходились во взглядах, но всегда были откровенны. А она уже по первым моим газетно-журнальным публикациям уловила то общее, что нас роднило и кроме чувства землячества. После одной нашей задушевной очной беседы Людмила ещё до выхода (!) первой моей книги подготовила в январе 1981 года передачу для областного радио. И в ней весьма прозорливо сделала как бы предсказание на всю мою будущую творческую жизнь: «Сейчас стало модным выделять среди авторов — „деревенщиков“, „производственников“ и так далее. О Фокине чаще говорят, как о поэте „армейском“. Но я читаю в местных газетах и центральных журналах его публикации и вижу: стихи очень разные и по форме, и по содержанию. Это потому, что нет темы, которая не волновала бы поэта. Может быть, где-то он интереснее и ярче, а где-то тема оказывается ему пока не под силу. Пока. Потому что главное он уже понял: писать надо о том, что тебя волнует. От понятий самых высоких — долг, честь, Родина до житейского и самого обычного. Нет мелочей в жизни, значит, нет их и в поэзии. Хорошее начало — половина дела». И далее уже прямой вывод из всего разговора: «Тема Армии и Родины, тема преемственности поколений стали для него точками отсчёта».
А вскоре наши первые отдельные книжки вышли в кассете из пяти сборников молодых кировских поэтов в Волго-Вятском книжном издательстве. Я не счёл нужным посвящать Людмилу (впрочем, как и других друзей, кроме нескольких наиболее близких старших товарищей — Анатолия Гребнева, Павла Маракулина) в издательскую предысторию. И лишь недавно рассказал её в интервью для книги Виктора Бакина «Поговорим. Стихи почитаем...». Повторю.
Победа в конкурсе «Смены» позволила мне в 1979 году принять участие в VII Всесоюзном совещании молодых писателей, на котором мои стихи были рекомендованы к изданию. Мне, как и некоторым другим участникам из регионов, были даны две рекомендации (насколько помню, в них и примерный объём предполагаемой книги был указан —
— А где рукопись?
— В Москве.
— Не нужно повторять её. Надо подготовить новую, с новыми стихами. Спешить не стоит. Всё должно быть на высшем уровне.
Подготовил. Принёс. Её отдают на рецензирование Дьяконову. На мои возражения, что Совещание уже рекомендовало, ответно возражают, что эта не та, а новая рукопись. А затем и вовсе узнаю, что издаюсь в «пятиместной» кассете. Поскольку в «Молодость» я не ходил, то и местным литературным политесам не обучался. Потому разговор с Любовиковым был прямым и резким. Но он дожал меня неотразимым аргументом: «Твоей талантливой оричевской землячке Людмиле Ишутиновой сколько ещё придётся ждать своей очереди. Будь мужчиной!» Я про себя подумал, да у меня же в Москве книжка должна выйти, что ж из-за этой на рожон лезть. Согласился. И не пожалел...
Все авторы кассеты обменялись своими книжками с тёплыми автографами. Люда мне написала рифмованный экспромт:
Из одних с тобой краёв,
От одних с тобой основ.
А основой той была
Оричёвская земля.
Так что, как тут ни крути,
Оричане впереди!..
Ниже приписка: «А если серьёзно, всего-всего тебе: и новых стихов, и новых книг!»
Особое родство
Рука у Люды оказалась лёгкой — пожелания сбылись. А «Оричёвская земля» продиктовала ей уже новый, куда более серьёзный стих, который Людмила мне посвятила и передала мне его, отпечатанным на машинке. Храню до сих пор этот листок не только, как память о своей «оричёвской» землячке, но и как созданный её поэтическим талантом символ неразрывности с землёй нашей малой родины, ставшей для нас самой большой и лучшей во всём мире. Одно из лучших её стихотворений — глубинных, где слились земля и небо.
* * *
Валерию Фокину
Землячество — особое родство,
В одной земле сплетение корней,
А небо детства выше и синей,
А школьный сад шумит ещё листвой
в том маленьком посёлке, где вокзал
и тротуар скрипучий из досок,
где детство разноцветным колесом
и родины зелёные глаза...
Но это всё стихи. А жизнь трудней.
И проще. И грубей. И лучше всё ж.
И каждый на другого не похож.
И лишь в земле сплетение корней,
в одной земле...
С возрастом я всё острее осознаю философию этих слов. И рад, что пусть косвенно, но всё же помог землячке с выходом её первой книжки. Оричи нас, конечно, сближали. Я сам старался, хотя и не после каждой моей поездки в родной посёлок, но довольно часто позвонить Людмиле, рассказать, что видел и с кем виделся, а то и приветы передать. Благо общие оричевские знакомые у нас были. Помню, например, долгий разговор под чай у них дома с дочерью и мамой про легендарного оричевского педагога Антонину Петровну Клабукову (Люда даже писала о её добрых делах в районке — газете «Ленинская искра»). Мои же родители семьями дружили с ней и её супругом Василием Николаевичем, бывали друг у друга в гостях и уже после отъезда из Оричей нередко заезжали к ним в гости по пути в Истобенск, чему я и сам был свидетелем. А в один радостный для Людмилы день я привёз ей, наверное, самый дорогой тогда подарок. На правах не только доброго товарища и земляка, но и как руководитель Кировского отделения Волго-Вятского книжного издательства. Это были авторские экземпляры только что изданной и ещё пахнущей свежей типографской краской книги стихов Людмилы Ишутиновой «Рябиновая улица». По данному поводу даже бутылка какого-то лёгкого вина, торжественно выставленная на стол Антониной Александровной, была мною же и открыта. А Люда лишь чуть пригубила из рюмочки и сразу одну из книжек подписала мне: «Земляку, поэту и просто хорошему человеку Валерию Фокину с пожеланием, чтоб „Автобус из глубинки“, миновав „Истобенский плёс“, въехал на широкую дорогу творчества. Удач тебе!» В этой подписи она обыграла названия моих недавних книг, в с воё время подаренных ей. Людмила не только читала их, но и писала о них. «Вечное небо Отчизны» — назвала она свои «Размышления о прочитанном» («Комсомольское племя» № 32, 15 марта 1986 года): «Начать следует с поздравлений, потому что выход новой книги да ещё в столичном издательстве — это событие и для автора, и для читателей-земляков, давно и заинтересованно следящих за творческим ростом поэта. „Автобус из глубинки“ — так назвал Валерий Фокин свой поэтический сборник, вышедший в конце прошлого года в „Современнике“. И далее в большой и обстоятельной рецензии сразу о главном: „Стихи возмужали, повзрослели, но не внешне, а сутью. А внешне — ни поэтических „виражей“, ни словесной игры, ни немыслимых метафор — всё это чуждо лирике В. Фокина. И в своём новом сборнике поэт словно бы продолжает уже ранее начатый разговор, спокойный, доверительный, по-мужски строгий, но открытый и откровенный, без прикрас, — разговор о жизни, о любви, о Родине“».
Писал и я о творчестве Людмилы. Но мало и не о стихах. Как в обзоре очередного сборника «Встречи» под рубрикой «Новые книги» («Кировская правда» № 225, 29 сентября 1982 года): «В очерке Л. Ишутиновой о стихах Н. Перминовой немало банальных выражений („её стихи зримы“, „они понятны и близки читателю“, „стихи заставляют думать“). А вот второй очерк о творчестве А. Ревы более глубок и доказателен. Л. Ишутинова, правильно подметив главную опасность, подстерегающую поэта, — декларативность, сумела не просто пересказать лучшие его стихи, но и проанализировать их с точки зрения формы и содержания».
Мы были честны друг перед другом в творческих оценках и скидок на землячество и дружеские отношения не делали. Хотя Люда при её деликатности всё же переживала о том, как воспринимал я её критические замечания. Такие, как это: «Не хватает поэту порой лаконичности, отдельные стихи получаются длинными, неоправданно затянутыми, словно автор хочет в одном стихотворении сказать всё сразу и обо всём». Примерно помню наш диалог по данному упрёку рецензента:
— Валера, ты не обиделся?
— Да что ты, Люда! Всё справедливо — меня многие за это пеняют.
— И правильно, лирика не терпит многословности.
— Так я ж, в отличие от тебя, не чистый лирик, а, как ты сама же определила, поэт социальной темы. А тема эта нескончаема...
Такие наши лёгкие, дружеские и в то же время творческие разговоры ей нравились. Вот в них уже она сама была многословна, а я не всегда терпелив. Пока не осознал, что для неё значат подобные длинные — до получасу если не более — наши телефонные беседы на самые разные темы. Даже такое общение — на расстоянии — Людмиле было жизненно необходимо: оно хоть в какой-то мере заменяло не такие частые, как хотелось бы, встречи с друзьями и знакомыми.
А во «Встречах» — 1984 наши стихотворные подборки на страницах уже стояли рядом, одна за другой, словно и впрямь продолжая одна другую. Кстати, наши — её и мои публикации в сборнике «Встречи» — были и в каждом последующем выпуске, в том числе, конечно же, и в те годы, когда я был его редактором (1988) и составителем (1990). Как редактор книги я настоял на включение в сборник стихов и прозы для детей «Ключик» (1989) милой повести Людмилы Ишутиновой «Юлька, Томка и другие». Потому что был в курсе её литературных дел: мы даже совместные планы строили о подготовке книги про Оричи. Я убедил её в том, что кроме стихов в сборник на двоих надо включить и документально-художественные прозаические новеллы о наших родных местах, о бабушках, о детстве. Не успели...
Имя Людмилы Ишутиновой после её смерти было присвоено Оричевской центральной районной библиотеке, в которой, хотя и в другом здании, я когда-то получил свой первый читательский билет. А через полвека, отдавая долг памяти, участвовал в презентации посмертной книги землячки, символически названной «Возвращение»...
* * *
Без искреннего осмысления и переложения в слово СВОЕГО жизненного опыта, СВОЕЙ личной сердечной (вплоть до буквальной) боли любые самые умелые стихи будут тривиальными и вторичными, а значит, лишёнными свежести и оригинальности. Этот поиск СВОЕГО для поэта Ишутиновой мог превратиться в сплошные зарифмованные сетования и жалобы, на которые её жизнь каждодневно давала жестокие поводы. Но, словно чудо исцеления, произошло обратное: через боль — к радости, через страдания — к осознанию того, как прекрасна жизнь. Сама она сказала об этом, как о данности, на которую нет смысла сетовать, но вопреки которой и превозмогая которую надо двигаться дальше. Сказала кратко и ёмко, почти афористично и в то же время поэтично:
В жизни моей всё вперемешку:
радость и боль, как дорожные вешки —
белые с чёрным —
по краю судьбы,
как вдоль дорог верстовые столбы.
Таков был крестный путь Людмилы Ишутиновой. И не только в поэзии. Во всём, что она писала: от театральных рецензий и обсуждений кинофильмов до откликов на творчество своих собратьев по перу. Во всём, что она делала как председатель общества инвалидов Ленинского района областного центра, да и просто как неравнодушный к чужой боли человек. Человек родниковой чистоты.
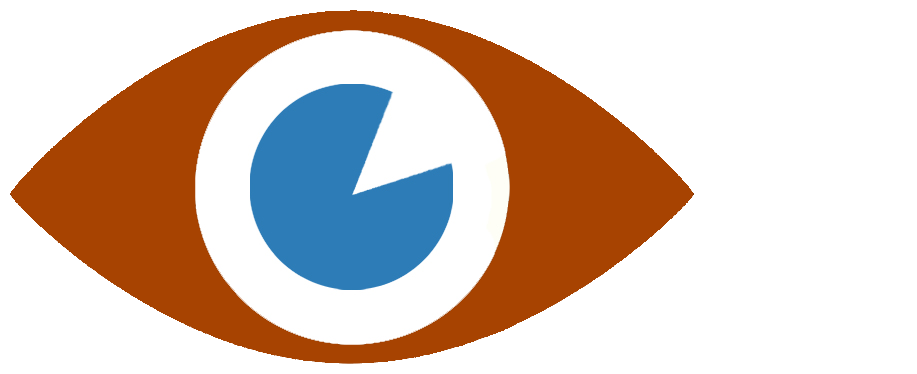 Версия для слабовидящих
Версия для слабовидящих