Маргарита Чебышева: «Надежда дарована всем…»
Т. К. Николаева
Стихов было много. Они приходили не только по почте, их приносили прямо в редакцию «Комсомольского племени», и вахтёрши сразу на глаз определяли начинающих поэтов. Не дослушав вопроса, они решительно отсылали на четвёртый этаж, в конец коридора.
Вот так однажды в наш кабинет вошла миловидная молодая женщина. Она замялась на пороге, и я спросила:
— У Вас стихи?
— Да. То есть нет. Я учительница школы рабочей молодёжи на шинном заводе. У нас работает учительница Маргарита Петровна Чебышева. Она пишет очень хорошие стихи, но стесняется их показывать. Я тут принесла немного, — и она протянула обычную школьную тетрадку.
Я попросила оставить тетрадку и пообещала, что позвоню, когда прочитаю. Тогда ведь в квартирах телефонов почти не было, пришлось звонить в школу. Но в конце концов я созвонилась с Чебышевой и пригласила её в редакцию, потому что стихи мне понравились. Не так, чтобы уж очень поразили, но это были настоящие стихи, правда, вполне отвечавшие существовавшим тогда требованиям. Посвящены они были, в основном её ученикам — рабочим шинного и других заводов, которые учились в школе рабочей молодёжи. Но и тогда была в них искренность, которая и есть настоящее достоинство поэзии.
Маргарита Чебышева вошла в кабинет, и поначалу не было впечатления, что она стесняется. Наш людный, шумный отдел затих, и потом, пока мы с ней разговаривали, было сравнительно тихо. Она с самого начала была такой, какой оставалась до конца — сдержанной, не болтушкой, просто одетой, с тщательно уложенными пышными волосами. Улыбка у неё всегда была наготове, но появлялась не часто.
Я сказала своё мнение о стихах. Она попросила посмотреть тетрадку. Я дала. Она полистала, закрыла и сказала:
— Я так больше не пишу. Это неважные стихи.
Но я уже сделала подборку, и она уже готовилась выйти в свет. Разумеется, я начала горячо возражать, сказала, что нельзя так говорить о стихах, вполне доброкачественных, что на эту тему вообще никто не пишет и читателям будет полезно и интересно с ними познакомиться. Но она решительно сунула тетрадь в сумку и отрицательно покачала головой. Потом достала несколько листочков с новыми стихами и отдала мне.
Мы ещё и встречались, и созванивались. И наконец, 8 марта 1964 года в «Комсомольском племени» появилась очередная страничка № 72 альманаха «Молодость» со стихами Маргариты Чебышевой. В маленьком предисловии я написала: «Автора этих стихов знают рабочие „Искожа“ и шинного завода. Маргарита Чебышева преподаёт в вечерней школе № 6. А в свободное время она пишет стихи. К сегодняшнему разговору о матерях М. Чебышева имеет непосредственное отношение — у неё растут две дочки Лена и Марина. Сегодня они обязательно преподнесут маме подарок и поздравят её с Международным женским днём. Давайте и мы присоединимся к ним».
Вот ведь и хорошим стихам всё-таки понадобилось идеологическое прикрытие. Да, стихи подобрались в соответствии с тогдашней ситуацией. Начиналась подборка со стихов об Аэлите. Оно — о великой вселенской любви, но звучало вполне идеологично:
Кто сказал, что звёзды молчаливы?
Слушай, как звучат они вдали.
Сделать эту девушку счастливой
Может только сын моей земли.
Были в подборке и стихи об учениках. Одно из них «Ученик мой девушку обидел» кончалось так:
Знаю я: она тебя любила.
И в душе — самой себе упрёк:
Как же плохо я тебя учила,
Если ты такое сделать мог.
Тогда я ещё не подозревала, что в этом простеньком стихотворении уже начал формироваться основной мотив всей дальнейшей поэзии Чебышевой — мотив личной ответственности за всё, что происходит в любви, семье, городе, стране.
Я оказалась права — стихи М. Чебышевой читателям понравились. Рита стала ходить в клуб. Естественно, что мы привлекали её и к другим газетным работам. 22 апреля 1964 года был напечатан небольшой очерк Маргариты Чебышевой о рабочих, учившихся в школе для взрослых, «Сюда приходят прямо от станков» и её стихи «Пишут сочинения ребята...».
В это же время в «Комсомольском племени» проходил литературный конкурс «Руки человечьи», название которого было взято из популярной тогда книги Эдуарда Межелайтиса «Человек», и даже логотипом конкурса стал рисунок из оформления этой же книги художника Стасиса Красаускаса. В рамках этого конкурса 17 мая были напечатаны стихи М. Чебышевой из того же цикла о школьниках-рабочих. А через неделю газета сообщила, что первая премия «Большая библиотека поэта» присуждена учительнице школы рабочей молодёжи № 6 Маргарите Чебышевой. Бытовые условия у неё всегда были трудные, а тогда особенно, и она мечтала иметь «Большую библиотеку поэта» — издание серьёзное, хорошо подобранное, с прекрасным справочным аппаратом. Какая это была радость — получить премию! Но и этот дар она принимала спокойно, улыбалась так, словно не совсем была уверена в том, что заслужила, заработала, что достойна такой награды.
Вместе с ростом поэтического таланта росла и ответственность, которая в последних книгах доходила иногда до болезненного отчаяния. Почти до самобичевания.
В сборнике «Русский сюжет», вышедшем в 1998 году, многие стихи посвящены неустройству девяностых, жестоким противостояниям русских с русскими, кавказским войнам. Особенно ранили её сведения о гибели молодых в неправедных побоищах. Она писала:
Я всё надеюсь — минет лихолетье!
Но как же горько, как же страшно мне,
Как будто это по моей вине
Россия ходит на могилы к детям.
Таких стихов у неё много.
Но тогда мы ведь были молодыми, надежд на будущее было море! Казалось, что нас ждёт прекрасное будущее, надо только не подличать, жить и работать по совести, не жалея сил — и всё образуется.
Во втором сборничке клуба «Молодость», вышедшем в 1965 году, среди напечатанных стихов Чебышевой появилось «Сердце».
Весна... Сердце болит — устало.
Сосу валидол. По ночам ворчу:
Что же ты нынче так рано сдало?
Зачем ты гонишь меня к врачу?
Что врач? Он скажет: покой и отдых,
Не волноваться, режим... Смешно!
Скажет, что жить мне долгие годы,
А сердце — оно у меня одно...
Не волноваться — совет обидный.
Что я могу ответить врачу?
Не волноваться мне просто стыдно:
Ведь я других волноваться учу.
И это стихотворение тогда многие знали наизусть. Может быть, потому, что с такой мерой искренности редко кто может писать стихи и предоставлять их читателям. Такими признаниями она принимала в себя, в свою жизнь, в свои переживания всех, кто читает стихи, кто умеет ценить открытость и доверчивость поэта.
Тогда же было напечатано стихотворение о любви «Город я люблю в тумане...», которое вошло в сборник «Вятские зори», вышедший в 1967 году. Оно заканчивалось таким четверостишием:
Я спешу домой в туманный вечер,
Где ты ждёшь, чтоб улыбнуться мне,
Чтобы руки положив на плечи,
Погасить огонь в моём окне.
Старшие товарищи обрушились на это стихотворение, автора обвиняли ни более, ни менее как в... эротике. Мы изумлялись, спрашивали, где они увидели эротику.
— Ну, мы же все знаем, что происходит, когда гасится свет, — отвечали они, впрочем, сладостно улыбаясь.
Мне хочется вспомнить ещё случай из той поры. На одном из писательских собраний мы, молодые, читали новые стихи. Рита Чебышева прочитала стихотворение (оно, к сожалению, так и не увидело свет), в котором она снова обращалась к любимому и радовалась возможности встречи, когда она разрешит ему обнять себя и «поцеловать малининку соска». Первым взвился Михаил Михайлович Решетников — человек деликатный, относившийся к молодым заинтересованно и заботливо. Он встал, взмахнул руками и вскричал:
— Риточка! Я от Вас не ожидал! Как Вы могли? Разве можно так писать для печати? Это же нескромно!
Рита, не меняя серьёзного выражения лица, сказала тихо:
— Но это так приятно!
И все зааплодировали.
Вскоре в книге «Славяна», вышедшей 1975 году, Чебышева написала стихотворение:
За камерность ругают — поделом.
В мой громкий век петь надо в полный голос.
Но тихо шепчет в поле спелый колос,
Без шороха дождя бесплоден гром...
Вокруг грохочет времени разбег.
Но тише! Посмотрите, рядом с вами
Читает про себя письмо от мамы
Совсем седой усталый человек.
И ещё о том же снова и снова:
Пусть вполголоса песня поётся,
Тихо небо синеет вдали,
Ощущеньем вины остаётся
Горький запах осенней земли.
Окрашены речения людские
В суровые и нежные цвета.
Произношу протяжное — Россия —
Для песни раскрываются уста...
Земля отцов, откуда вышли все мы,
Сквозь все века любовь тебя поёт!
Я самой лучшей на земле поэмой
Считаю имя светлое твоё.
К мысли, что искренность рождается не в суете, не в жажде наслаждений, не в потребительском угаре, Маргарита Петровна пришла в самых ранних своих стихах и придерживалась этой истины до самого конца.
В стеклянной колбе тишины,
Где даже звуки не слышны,
Беззвучно, как растёт трава,
В стихи слагаются слова.
В 2022 году в издательстве библиотеки им. А. И. Герцена вышла прекрасная книга — переписка неповторимого поэта Нины Снеговой и кировского художника Александра Веприкова. Шестьдесят лет назад, в пору рождения клуба «Молодость», выхода первых сборничков, Нина Снегова тоже была начинающим, но уже заметным поэтом, да и человек она была неординарный. Дружбу сверхоткровенной Снеговой и сдержанной Чебышевой я тогда объяснила себе их совпадением по возрасту. Но сейчас понимаю: внешне спокойная, молчаливая Маргарита Чебышева и эпатажная, громогласная Нина Снегова были родственными душами. И с годами, когда Чебышева стала писать много стихов о любви, а в личной жизни она не была счастлива, в ней искренность тоже достигала иногда высоких пределов. И это их особенно роднило со Снеговой.
Сохранилось занятное письмо Леонида Владимировича Дьяконова Снеговой в Кострому, куда она вынуждена была уехать в начале
«12.01.1979.
Дорогая Ниночка!
<...>
Не знаю, как Вы живёте. Рита, наверное, знает из переписки, но ведь из неё лишнего слова не вылетит, да и необходимые-то не вылетают.
Мне, бедняге, пошёл восьмой десяток. Но я ещё не вишу на чужой шее, могу думать, работать, и жить мне захватывающе интересно!
Всего Вам доброго! Л. Д.
P. S. Спасибо от души за добрые стихи!»
А ведь Рита, то есть Маргарита Чебышева, была частым гостем знаменитой кухни Леонида Владимировича. Мы приходили к Дьяконову чаще всего втроём: Надя (Перминова), Рита (Чебышева) и я. Рита могла просидеть целый вечер, не вымолвив ни слова. Она внимательно слушала, смеялась, кивала или отрицательно качала головой, Дьяконов всячески подкалывал её — иногда довольно острыми шутками. Это ничего не меняло. Но потом я с удовольствием находила в её стихах отголоски наших разговоров.
Видимо, тогда она съездила к Снеговой в Кострому. И возникло стихотворение «Кострома», где есть строки как раз об этом:
На улицах этих дышу
Я воздухом разных столетий.
Я молча о главном спрошу,
И город мне молча ответит.
Позднее Чебышева написала стихотворение, посвящённое Л. Дьяконову, которое начинается как раз тем, что роднило её более всего именно с Ниной Снеговой.
Исповедальность — мера ремесла,
Которое поэзией зовётся.
Всё есть в поэте. Нету только зла —
Оно от веку в мире не поётся...
Однако на встречах с читателями она была гораздо красноречивее. Мы с Ритой выступали вместе десятки раз. И всякий раз я удивлялась, как легко она находила контакт с любой аудиторией. Её часто и с удовольствием приглашали на встречи врачи, учителя, работники домов пионеров, то есть интеллигенция, перед которой многие пасовали, ввиду того, что у этих слушателей были повышенные требования — они и сами много читали, знали литературу, многие могли запросто написать неплохие стихи к какому-нибудь юбилею. Но Чебышеву слушали, замерев, потом задавали умные, нередко острые, вопросы и часто писали похвальные отзывы.
Но подробнее я хочу рассказать о том, как мы ездили с ней по Уржумскому району. Ей давно хотелось поездить по тем сёлам, деревням, побывать в тех местах, где прошло её отрочество, потом юность. Одна она не решалась: она действительно была стеснительным человеком. И мы поехали вдвоём. К нам присоединялись участники уржумской самодеятельности, местные поэты, журналисты. Но чаще всего мы выступали вдвоём. Встречи происходили в маленьких клубах, в пионерских лагерях, на фермах, в домах быта, прямо в поле, на сенокосе во время обеда.
На маленькой ферме нас пригласили в красный уголок — была такая комнатка для официальных собраний. И четыре доярки, пришедшие на встречу, поначалу сидели строгие, молчаливые и даже недовольные. У них работы полно, им бы передохнуть в полдень хоть чуть-чуть, а тут какие-то поэты, поди, лекцию будут читать — надо сидеть, слушать.
Я для начала попыталась их успокоить, сказала, что лекцию мы читать не будем, а просто почитаем свои стихи и постараемся, чтобы было не скучно. Самая пожилая, ещё не остывшая от неудовольствия, сказала:
— Дак чо мы понимаем-то? Мы ведь гляди-ко, девка, целый день тут — все в говнах, с утра до вечера.
Другие доярки зашикали на неё, толкали в бок, махали на неё руками. А она опять да ещё громче:
— Чо вы на меня-то? Чо я не права, чо ли? Гляди вот — вся в говнах. Руки-то не мытые.
Наконец, мы начали нашу встречу. На мою долю выпадало обычно рассказывать о кировских писателях — кто что пишет, какие книги вышли, какие ещё выйдут. Тут было что рассказать и на самом деле не скучно.
А потом встала Чебышева, сказала о себе кратко и сухо и стала читать. Как она поняла, что этим уставшим женщинам будет интересно и приятно слушать о любви? Она читала и о молодой любви, с надеждами, мечтами и несбывшимися ожиданиями. Потом о семье, о дочках, потом о разлуках, о бросившем её муже, о горечи одиночества. Женщины сначала притихли, потом заслушались. И вдруг стали сопереживать. Рита прочитала стихотворение, посвящённое мужу, «Ну, как живётся с женщиной, которая попроще?» И вдруг одна из доярок ахнула и протянула к ней руки:
— Так он всё равно ушёл? Совсем ушёл? — почти вскрикнула она.
— Ой, и как же ты? С двумя-то? — подхватила другая. А самая пожилая сказала успокаивающе:
— Ну и наплюй на него! Эка ты вон какая! А он, поди, сморчок, поди, и пил ещё? Пил? — грозно спрашивала она. Рита кивнула. — Ну и наплюй на него! Мужики они все такие. А мы тебе молочка свеженького нальём. У нас нынче надои-то хорошие. С собой возьмёшь. Наплюй!
И тут раздался могучий рёв. Женщины вскочили, заметались, стали сдирать с себя чистые платочки, толкаясь, побежали из красного уголка. И тут же одна вернулась:
— Простите нас, у нас корова телится. С утра мучается. Мы сейчас посмотрим, может, и ещё послушаем. Очень вы душевно говорите! К нам ведь никто не приезжает. Вы — первые. Подождите, ладно?
Потом другая принесла нам молока и два стакана. Ещё через пять минут принесли и каравай хлеба.
А корова ревела всё отчаянней, и мы поняли, что надо уходить. Хотя и жалко было. Со дня этой встречи прошло около четверти века, а я помню — так было хорошо, точно с родственниками повидались. Недаром у Маргариты Чебышевой много стихов о деревенских жителях. Она знала, любила деревню, трудолюбивых крестьян, которых судьба редко баловала, а власти, несмотря ни на какие лозунги, заверения и обещания, не смогли сохранить эту особую русскую крестьянскую культуру.
Назвали по-бабьи — Россией,
Крестили по-русски — бедой.
Растили — слезами поили,
Кормили травой-лебедой...
Даруй мне счастливую участь
Припасть к твоему роднику,
И таинство древних созвучий,
И слова рябиновый вкус.
Вся женская нежность и сила
В тебе. И поклон до земли
За то, что по-бабьи — Россией
Когда-то тебя нарекли.
О деревенской теме в творчестве М. Чебышевой надо бы писать отдельно. Она пыталась углубиться в историческое прошлое России, писала стихи и поэмы, герои которых жили в тех больших, красиво обустроенных деревнях, которые мы застали уже совсем на излёте. Именно тогда возникло и набирало силу движение, которым партия и особенно комсомол гордились — сселение неперспективных деревень. Ранило душу само определение деревень — неперспективные. Они жили веками, в их судьбе случалось всякое — и протори, и разруха, и расцветы, которые уже никогда нельзя больше увидеть и оценить. Но никогда деревни не ощущались как неперспективные. Это насильственная коллективизация во многом погубила сложившийся ещё в древности деревенский уклад. Стоило дать свободу и землю крестьянам, и всё бы стало налаживаться. Но не дали ни того, ни другого. А вину возложили на самих крестьян.
Чебышева написала об этом несколько десятков прекрасных стихов, самые поздние — это крик души, это обвинение всему нашему обществу. И более всего себе.
А мне бы родиться Любавой
В бревенчатой светлой избе,
В деревне, где тропка любая
Меня привела бы к тебе.
А мне бы держаться за стремя,
Счастливо закинув лицо...
Другое врывается время
И рук разрывает кольцо...
* * *
Не выпало раньше родиться,
Но есть у прошедшего власть:
Всё вижу себя молодицей
В цветном полушалке до глаз.
Среди белокаменных улиц
Вдруг я затоскую всерьёз
По избам, стоящим сутулясь
У дремлющих старых берёз...
В предисловии к книге «Дом на песке», вышедшей в 2012 году, она писала: «Это — не „Избранное“, а попытка выразить состояние души обычного человека в разные времена...» В числе первых она поместила в книгу стихотворение «А предки канули в правремени...»
Пращур дальний мой, в веках невидимый,
Радостно придумывал слова,
Имена давал всему, что видел он:
Небо, облака, река, трава...
Называл людей, живущих в племени,
Словом очень ласковым: «Родня».
Хоть на миг бы сблизиться во времени,
Может, так назвал бы и меня.
Вообще в этой книге много стихов, обращённых в прошлое родной земли и собственной души. В каких-то временных точках они соприкасаются, и высекаются стихи, которые вызывают удивление способностью прозрения у автора.
И о любви Чебышева писала так же искренне, не скрывая своих попыток понять, что же мешает ей обрести счастье. Свою судьбу она исследовала так же пристрастно, как и судьбу страны. И писала об этом с полной открытостью. Стихотворение «Я родилась для одиночества...» кончается так:
И вдруг обрадуюсь, что истина
Осталась той же, что была —
Всё тлен: успехи, деньги, почести,
А вечна лишь одна любовь.
Я — Белый лист. И одиночество.
И боль невысказанных слов.
Только в стихах о дочерях её сердце радуется, умиляется, но в то же время она не забывает обо всех трудностях, которые ожидают их в жизни, и предостерегает от ошибок, и желает обрести стойкость.
Не оставлю ни вещей, ни денег,
Только память да ещё стихи.
И когда для всех я стану тенью,
Мне простятся все мои грехи...
Мне жилось по-всякому на свете.
Одного хочу, не помня зло,
Чтобы и стихам моим, и детям
На людей хороших повезло.
Но всё же главным делом жизни, главным своим предназначением, основным долгом и великим счастьем во всех сборниках оказывается Поэзия. Недаром и это слово, и само Слово она пишет с большой буквы.
Одно из ранних стихотворений приведу целиком:
Один поэт при мне живописал,
Как каторжен, как тяжек труд поэта.
Сочувствовал ему притихший зал,
До сей поры не ведавший про это.
И верили ему с простой души —
На лицах изумленье и участье.
А мне хотелось крикнуть: не пиши,
Когда не знаешь ты,
Что это — счастье!
И в прикосновении к этой теме — теме творчества и чудотворства — всё равно возникли строки недовольства собой, сожаления о том, что многое не успела написать, а кое-что не сумела. Но всё же именно поэзия даёт и надежду, и настоящее счастье.
«Говорят: стихи — не Божье дело, что грешна над Словом ворожба», — писала она в одном из стихотворений. Но, вспомнив своих предков — прадеда богомаза и деда художника, она приходила к выводу, что именно ей выпало принять их наследство, и продолжила:
Мой негромкий голос — только средство
Поддержать связующую нить.
Всё я изначально понимала:
Силы мало и таланта мало.
Мне из искры не возжечь огня.
Но чтоб связи сохранить цепочку,
Сбереги, судьба, хотя бы строчку,
Раз уж выбор выпал на меня.
В самой трагичной книге «Русский сюжет» (1998) есть цикл стихов «Слово». Тут и умиление исконно русскими крестьянскими словами, гораздо более точными и душевными, чем язык сегодняшнего общества, и проникновение в суть того, как они рождались, эти мудрые, выразительные слова родного языка.
Пылает небо ярко и зловеще,
Летят в высоком небе облака.
И именами прорастают вещи
Сквозь белизну тетрадного листа.
Уходит день, сверкающий и гневный,
На горизонте подпалив леса.
И в зареве заката над деревней
Деревьев кроны, словно голоса.
Звучат цвета, звучат изломы линий,
И горизонт звенит, как тетива.
Звучащие летят на землю ливни,
Чтоб об неё разбиться на слова.
Да, девяностые годы Маргарита Чебышева воспринимала, как зловеще пылающее небо, гневный уходящий день, тетива (то есть напряжение, готовность к защите) горизонта.
...забыты истины простые,
Борьбою взорвана страна.
Я только лишь в одном вольна:
Просить прощенья у России
За все лихие времена.
В этой книге многие стихи и есть покаяние за всё, что случилось с родиной, с людьми, с культурой. Но поэт готов был простить всё это за то, что в результате возникают слова, которые смогут изменить мир, помогут людям пережить тяжесть распада привычного уклада жизни.
Есть в мире Слов заветная черта,
За ней у слов совсем другие краски.
Там всё волшебно: чувства, лица, маски,
И гениальна даже простота.
Живу обычно, как растёт трава,
И думаю на языке обычном.
Таланта мало — это не трагично,
Найти бы только нужные слова,
Чтоб пригодились хоть кому-нибудь,
Как зонтик в дождь, как палка для слепого,
Как нежная ладонь на лоб больного,
Как взмах руки, что провожает в путь...
А завтра пусть читают не меня,
И это только справедливо, знаю
И не жалею, что была нужна я
На краткий миг сегодняшнего дня.
К осмыслению ухода из жизни Маргарита Чебышева начала обращаться довольно рано. Её больно ранили безвременные кончины друзей, и даже, казалось бы, закономерные уходы старших товарищей доставляли боль и горечь. И свой возраст она оценивала всё так же спокойно, достойно, писала об этом, соотнося свою жизнь со всеми неожиданными и ожидавшимися катаклизмами в стране и мире.
Становлюсь и бесстрастней, и суше,
Не скрываю недугов и лет.
Выдыхаю по капельке душу
И гашу потихонечку свет...
Для себя ни о чём не жалею,
Мне не худшая доля дана,
И за то, что стихами болею,
Я уже заплатила сполна...
Для истории хватит великих.
Память мира, что так уже стар,
Сохраняет не лица, а лики —
На земле это штучный товар.
Она как бы примеряла своими стихами те оценки, которые могут дать её жизни, творчеству те, кто придёт после нас, кто обратится к поэзии «шестидесятников» из времён, может быть, более ясных и добрых.
Я в жизнь свою смотрю со стороны
И обнаруживаю с изумленьем,
Что были, как по щучьему веленью,
Удачи и везенья мне даны.
А всё-таки судьба была щедра:
детей, друзей, стихов — совсем не мало.
А если раны солью посыпала —
Чтоб боль срывалась с кончика пера...
И даже написала своеобразное завещание — стихотворение «Друзьям». В нём только одна просьба — нарушить привычное течение ритуала:
Повязки... Речи... масса чепухи.
Пока распорядитель отлучился,
И ритуал ещё не завершился,
Ребята, почитайте мне стихи!
Нам дан предел земного бытия.
Но если правда, что есть тот, кто — выше,
Пускай позволит мне ещё услышать
Те ваши строчки, что любила я.
Она ушла так же, как и жила — негромко, достойно, не нагрузив собой, своим уходом никого. Когда прощались с ней, шёл сильный дождь — она любила такую погоду.
В 2022 году в библиотеке им. А. И. Герцена состоялся вечер, посвящённый
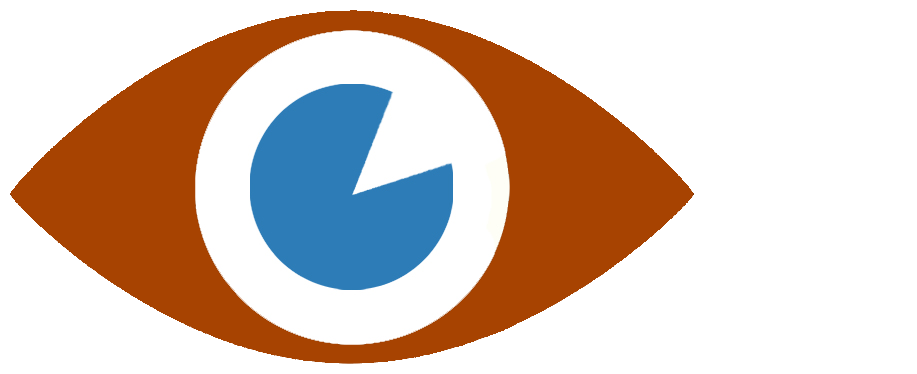 Версия для слабовидящих
Версия для слабовидящих