Уржумская «ночная ведьма» А. И. Дудина
В. Ю. Шеин
Как её величали в том далёком победном 1945 году? Может, просто Аня, Анюта? Ведь было ей всего 27 лет – комсомольский возраст. Боевая, задорная, смелая девушка. А может быть, уважительно – Анна Ивановна?
Больше трёх лет она воевала на фронтах Великой Отечественной войны. Совершила 675 боевых вылетов, сбросила более 65 тысяч килограммов бомб, 400 тысяч листовок. На её счету 35 крупных взрывов и столько же пожаров, произведённых на вражеской территории. За успешное выполнение заданий командования гвардии лейтенант Дудина была награждена орденом Красного Знамени (дважды), орденом Отечественной войны II степени (дважды: 1943 и 1985 гг.), медалями «За оборону Кавказа», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Согласитесь, что не каждый воинмужчина удостаивался таких наград! А вот она, уржумская девушка, заслужила!
Родилась Анна в декабре сурового 1918 г. в бедной крестьянской семье в деревне Липово Уржумского уезда, что была недалеко от посёлка Андреевский. Не только летом, но и зимой детишки бегали босиком, например, из своего дома в дом соседки в самодельные куклы поиграть. Ни покупных игрушек, ни книжек в семье не было: не на что их было приобрести. С малых лет Анюта была привычна к тяжёлому труду и жизненным испытаниям.
В письмах, направленных десятилетия спустя учащимся Андреевской средней школы, Анна Ивановна сообщала:
«С болью вспоминаю своё полуголодное, суровое детство. У нас тогда ничего не было: ни тетрадей, ни карандашей, ни букварей. Началось моё обучение в Андреевской школе.
Я любила школу и всё мне в ней нравилось. Не забудется, когда моя первая учительница Анастасия Ивановна Копысова выдала мне букварь. Его получила я и Виктор Градобоев как примерные ученики. Это был мой самый счастливый день. Бегу из школы домой (а жили мы на горе напротив школы), сяду в лесу под ёлкой и листаю букварь, картинки смотрю, читать-то ещё не умела. А как я его берегла! Ведь и газет-то не было, чтобы его обернуть, не то что бумаги. Где какой клочок найдём исписанной бумаги, так и писали на нём между строчек. Своего у нас, бедных детей, ничего не было. В школе выдали один карандаш на двоих. Пришлось его разрезать.Я бегала в школу полубосая, на ногах растоптанные лапти, к весне они все растреплются, одни “усы” торчат (в лаптях я ходила лет до шестнадцати). Портянки и чулки до колен, портяных штанишек нет, кое-какое платье и старая мамина фуфайка, которая прикрывала мои коленки, на голове простой платок.
Мы, школьники, были очень дружными. Под руководством нашей пионервожатой Евдокии Ивановны Копысовой (сестры Анастасии Ивановны) мы часто совершали походы в лес, разучивали песни. Самым бедным детям пионерские костюмы выдавали бесплатно».
Мама Анюты училась грамоте вместе с ней, окончила ликбез, и её послали учиться сначала в Нижний Новгород, а затем в Сарапул, где она окончила совпартшколу, после чего работала председателем сельского Совета в Сюксе, а потом в Шевнине. Дочка в это время переселилась к деду Севастьяну Андреевичу Сметанину в деревню Табеково.

Анна Ивановна Дудина на встрече в Андреевской школе. 1965 г.
Совпадение это или нет, не знаю, но А. И. Дудина и будущий Герой Советского Союза В. И. Широких, впоследствии ставшие прославленными лётчиками Великой Отечественной войны, в одно время ходили в Мальковскую начальную школу на Красной горе. Возможно, они даже встречались и мечтали о небе, о полётах, сидя на травке и с высоты глядя на расстилающиеся заречные, кажущиеся бескрайними дали. Ведь с обрывистого правого берега реки Вятки, почти как из кабины самолёта, открывался прекрасный вид на луга и дубравы, лежащие далеко внизу. Но полёты не в мечтах, а наяву — это в будущем. Счастливую жизнь молодых людей перечеркнула война...
Мечта стать лётчицей зрела у Анны давно, с детских ещё лет. Она любила читать книги и слушать рассказы о лётчиках. Окончив семь классов Уржумской школы имени В. И. Ленина, она продолжила учёбу в педагогическом училище. Но из семьи ушёл отец, пришлось бросить обучение и устраиваться на работу в типографию газеты «Кировская искра». Работала наборщицей. Помогли освоиться в коллективе и на рабочем месте опытные специалисты. Не случайно через много-много лет, в 1979 г., она ещё раз побывала в нашем городке, встретилась с уже новыми работниками типографии, посмотрела, что изменилось с тех давних пор, показала дочери, где она начинала свой трудовой путь.
Конец
А ещё Дудина неплохо каталась на коньках и бегала на лыжах. Она много читала, увлекалась художественной самодеятельностью.
Шли годы. Как и многим молодым людям, Анне хотелось чего-то нового, неизведанного, романтичного. Мир посмотреть, себя проявить. Уехала в Москву. Работу выбрала снова связанную с печатью: устроилась на фабрику юношеской книги контролёром. В выходные дни с друзьями ходила в Центральный парк культуры и отдыха имени Горького, где прыгала с вышки с парашютом. Не покидали её мечты о небе, о полётах. Конечно, она и не думала, что именно во время Великой Отечественной войны она проявит все свои умения и навыки, полученные на гражданке.
Из столицы нашей страны Анна Дудина переехала в Батуми, где поступила на работу наборщицей в издательство «Батумский рабочий». И в этом городе она продолжила занятия парашютным спортом. Потом поступила учиться в аэроклуб. Помогли ей уржумские уроки. Здесь она совершенствовала технику пилотирования и добилась отличных результатов. Благодаря этому её взяли в Батумский аэроклуб лётчиком-инструктором. Было это в 1940 году. Но она успела выпустить две группы курсантов.
Началась Великая Отечественная война. Как и многие подруги, Анна просилась на фронт и ушла добровольцем в действующую армию. В декабре 1941 г. аэроклуб расформировали, и в январе следующего года Анну Дудину зачислили лётчиком в санитарную авиацию. Длинные косы, платья, туфельки на каблуке, модные шляпки — всё это пришлось забыть на долгие годы войны, оставить в мирном прошлом.
После специальной подготовки ей доверили небольшой санитарный самолёт, на котором она летала из Анапы в окружённую Керчь, брала на борт раненых и под постоянным обстрелом врага прорывалась обратно. Молодая лётчица совершила 44 рейса, более 30 раненых вывезла с «огненной земли».
Затем Анну Дудину перевели на более ответственный участок, назначив пилотом
Трудные это были полёты: везде высокий лес, посадочная площадка маленькая, да ещё посередине её ручей течёт. Садиться было удобнее, чем взлетать с этого пятачка.
В апреле 1943 г. Анну Дудину вызвали в штаб войсковой части и дали направление в
«Весной 1943 года, — вспоминала о том времени Анна Ивановна, — меня перевели летчицей в
Авиационный полк был сформирован в октябре 1941 г., командиром назначена Евдокия Давыдовна Бершанская, лётчица с десятилетним стажем. Под её командованием полк сражался до окончания войны. Порой его шутливо называли «Дунькин полк», с намёком на полностью женский состав и оправдывая именем командира полка, ведь до своего расформирования все должности от механиков и техников до пилотов и штурманов, а также руководство занимали только женщины.
Но в боевых делах девушки (возраст личного состава был в среднем
На чём же летала Анна Дудина?
Полк был оснащён ещё довоенными самолётами У-2 (ПО-2). Девушки нежно назвали свои машины ласточками, но более распространено было их название «Небесный тихоход». Они предназначались не для боевых действий, а для обучения лётного состава. Это были деревянные бипланы с двумя открытыми кабинами, расположенными одна за другой, и с двойным управлением — для лётчика и штурмана, проще сказать для ученика и лётчика-инструктора. Радиосвязи и какой-либо защиты даже от пуль не было. Мотор маломощный, который мог развивать максимальную скорость до
Днём Анна Дудина летала со специальными заданиями в станицы Белореченская, Ивановская и даже в Армавир, в ремонтные мастерские и в Ессентуки, где располагался госпиталь, откуда она привозила вылеченных боевых подруг. По ночам её тренировала заместитель командира полка Серафима Амосова, которая через месяц уверенно доложила командиру полка:
— Дудина летает отлично. Можно дать ей опытного боевого штурмана, и пусть сегодня же идёт в самостоятельный боевой вылет.
Первый ночной полёт молодая лётчица совершила 5 мая. Вот как описывала это в книге «Боевые подруги мои» М. П. Чечнева, однополчанка Дудиной:
«Кто из нас не запомнил её во всех подробностях! Врезалась она и в память Ани Дудиной. Тёмная южная ночь, непроглядная даже при свете крупных звёзд, усыпавших таинственное небо. Подчёркнуто официально представилась лётчице назначенная к ней штурманом Катя Рябова. И сразу, нарушая ночную тишину, заворчали моторы самолётов. Плавно, одна за другой отрывались от земли и уходили в темноту наши боевые машины. Настала очередь экипажа Дудиной — Рябовой. Получив разрешение на взлёт, Аня привычным движением дала от себя ручку сектора газа, и самолёт взмыл в воздух. Лётчица совершила круг над аэродромом. Штурман дала курс на цель. В ту ночь это был вражеский аэродром около станицы Киевская.
Под крылом по всему маршруту расстилалась густая дымка. Земли не было видно. Аня сосредоточенно следила за приборами. В соответствии с заданием их самолёту надлежало неожиданно появиться над аэродромом, осветить его САБами (светящимися авиабомбами) и нанести бомбовый удар по немецкой технике. Задание было сложное и ответственное. Аня отлично ориентировалась во время дневных полётов, успешно закончила учебную тренировку в нашем полку. И всё же при первом боевом вылете ориентировка далась ей не сразу. Лётчица, естественно, волновалась. Но штурман эскадрильи Катя Рябова понимала её состояние и умело, тактично подсказывала курс.
Дудина точно вывела самолёт на цель. Штурман была довольна. Сбросив сразу три САБ, она осветила немецкий аэродром и передала лётчице:
— Видишь самолёты на земле? Мы находимся точно над аэродромом. Бросаю бомбы.
Машина шла на малых оборотах. Штурман сбросила бомбы, но не все. Попросила лётчицу зайти ещё раз на цель.
И тут начался ад. Как только были сброшены первые бомбы, зажглось столько прожекторов, что вокруг заплескалось море ослепительного света. Их машину цепко схватили щупальца прожекторов. Небо распороли нити трассирующих пуль и снарядов.
В частых разрывах снарядов рокотали моторы маленьких самолётов: одни уходили от цели, отбомбившись, другие только подходили к ней.
А самолёт Дудиной всё ещё бился в лучах прожекторов. Аня слушала команды штурмана, уклонялась от разрывов снарядов, искусно маневрировала, пытаясь вырваться из потока слепящих лучей. Все стрелки на приборах плясали, как бешеные. Дудина резко пошла на снижение. Когда до земли оставалось
— А ты молодец... Умеешь держать себя в руках, — заметила после посадки Катя Рябова.
Спустя
Набрав высоту, Дудина направилась к аэродрому со снижением, на приглушённом моторе. Сделала один вираж, второй, третий... Потеряв звук мотора, гитлеровцы выключили прожекторы и прекратили зенитный обстрел.
— Аня, выводи. Высота пятьсот метров, — услышала Дудина голос штурмана.
Не теряя ни секунды, лётчица перевела машину в горизонтальный полёт, включила мотор. Штурман сбросила бомбы. Они легли точно в цель.
Снова заметались прожекторы, снова остервенело залаяли зенитки. Но было поздно: самолёт планировал в сторону своего аэродрома...«
После первого настоящего боевого крещения Дудина старалась не отставать от более опытных лётчиц, совершала более трёх вылетов каждую ночь. Через месяц ей прикрепили постоянного штурмана — тихую, немного застенчивую Соню Водяник. Они стали почти неразлучны.
Ночное бомбометание было точным, потому что производилось с малой высоты. Анна Ивановна впоследствии вспоминала, что в темноте хорошо были видны взрывы складов с боеприпасами и горючим. Иногда пожары горели всю ночь и были отличными ориентирами для девушек-лётчиц, помогали им быстро и точно выйти на нужную цель.
На личном счету Дудиной значилось уже свыше двухсот боевых вылетов, когда пришёл приказ о награждении её орденом Отечественной войны. Подруги горячо поздравили Анну с высокой наградой.
Дудина сама любила оружие, отлично стреляла из пистолета и пулемёта. И это умение передавала авиаторам.
«Понимаете, в бою всякое может случиться, — говорила она. — Может произойти и вынужденная посадка на вражеской территории. И если уж придётся сражаться на земле, то надо будет отдать свою жизнь подороже...»
Нелегко было тихоходным самолётам выйти из слепящих лучей вражеских прожекторов, количество которых на крупных объектах доходило до 25. Смотреть на них нестерпимо, можно было потерять зрение. Когда самолёт попадал в перекрестье прожекторов, то лётчица вела машину по приборам, а штурман, высунувшись по пояс из кабины и отводя машину от разрывов снарядов, кричала ей: «Отверни влево, отверни вправо, увеличь скорость...»
Евдокия Яковлевна Рачкевич — заместитель командира авиаполка по политчасти, писала с фронта в Уржум матери Анны Дудиной:
«Ваша дочь работает лётчиком в нашей части. Работает смело и бесстрашно. Спасибо Вам, дорогая Екатерина Севастьяновна, за то, что Вы воспитали такую прекрасную дочь, которая в трудное для страны время отказалась от всего личного и пошла бить врага с воздуха. Летает она только ночью в самых сложных метеоусловиях. На днях у нас было комсомольское собрание, где Вашу дочь отмечали как одну из лучших. Нам было приятно слушать — она такая хорошая лётчица».
Отважная девушка и сама писала домой письма, отвечая на приветы родных и знакомых, рассказывала матери о тех местах, где они сражаются с врагом, о боевых подругах, о схватках с фашистами. Часто свои корреспонденции она сопровождала стихами лётчицы Натальи Меклин (23 февраля 1945 г. ей было присвоено звание Героя Советского Союза).
Из письма Анны Дудиной с фронта:
(ночь на 1 августа 1943 г.)
«Я помню ночь – темнее нет
той ночи чёрной, как могила.
Я помню: яркий резкий свет
прорезал тьму с огромной силой.
Скрестились семь прожекторов
и медленно ползли все вместе,
и, словно щупальца спрутов,
У-2 метался в перекрёстке.
Как хорошо, как славно жить!
Но смерть витает близко, рядом,
и тонкая спасенья нить
вдруг оборвётся… Нет, не надо!
Мама! Это стихотворение посвящено памяти наших девушек, погибших в ту ночь… Их поймали прожектора, и ночные “мессеры” сбили и подожгли.
И мы мстим за них. Каждый наш вылет наполнен ненавистью, лютой ненавистью к извергам. Мы не знаем страха, а если приходится трудно, то перед нами встают образы наших подруг-героинь, и мы выполняем задания в любых условиях».
Именно эта страшная ночь на 1 августа 1943 г. особенно запомнилась Анне Ивановне. Тогда погибли сразу восемь лётчиц и штурманов. Она стала самой трагичной в истории подразделения. Немецкое командование, раздражённое постоянными ночными бомбёжками, перебросило на участок действий полка группу ночных истребителей. Это стало полной неожиданностью для советских лётчиц, которые не сразу поняли, почему бездействует вражеская зенитная артиллерия, но один за другим загораются самолёты.
После окончания войны многими из девушек-лётчиц были написаны книги и мемуары о своём боевом пути. Вот как описывает эту страшную ночь в книге «Повесть о Жене Рудневой» Герой Советского Союза боевая подруга нашей землячки М. П. Чечнева:
«Девять экипажей второй эскадрильи взлетели один за другим: Крутова – Саликова, Высоцкая – Доктович, Рогова – Сухорукова, Розанова – Студилина, Полунина – Каширина, Макарова – Белик, Дудина – Водяник, Чечнева – Клюева, Рыжкова – Руднева. Предстояло бомбить скопление живой силы и техники врага близ станиц Киевской, Крымской, Молдаванской.

Анна Дудина (справа) и Софья Водяник

Послевоенный снимок Анны Ивановны

Анна Дудина (крайняя справа). Германия
Сначала всё было привычно: над целью поднялись лучи прожекторов, постояли, колыхнулись и ринулись ловить первый самолёт. Прилипли и повели. Второй и третий экипажи шли спокойно, ожидая вскоре увидеть разрывы снарядов и трассирующие очереди зенитных пулемётов, но зенитки молчали. Маленький самолётик поблёскивал в лучах, рвался вверх, шарахался в стороны, и казалось, что он привязан к земле широкими белыми лентами, которые натянулись, но не обрываются. Неизвестно отчего, совершенно неожиданно самолёт вспыхнул и всё же продолжал планировать. Прожектора вели его ещё некоторое время и, наконец, погасли. Пламя приближалось к земле. У самой земли из горящего самолёта вылетела красная ракета, и тут же вверх взметнулась яркая масса огня, грянул взрыв. Внизу неторопливо догорали обломки.
И снова включаются прожектора и ловят второй самолёт. Всё повторяется: поймали, ведут, и снова молчат зенитки. Вдруг откуда-то сбоку к ПО-2 летят губительные светлячки, вспыхивает плоскость. Падает второй самолёт, тянутся огненные языки. Секунды, и снова взрыв.
Теперь ясно: в небе патрулирует вражеский истребитель. Прожектора освещают для него цель, и он без помех, как на ученьях, расстреливает тихоходные самолёты. Все, кто летит следом, впервые видят такое, впервые на их глазах горят подруги, горят свои, родные девочки, которых любишь, с которыми столько переговорено, с которыми приходилось ссориться и мириться, которых, кажется, знаешь тысячу лет.
И третий экипаж, как притянутый магнитом, как бабочка, зачарованная светом, треща слабым мотором, движется навстречу своей гибели, поджидающей в темноте. В чём же дело? Страх и недостаток времени на обдумывание манёвра. Парализованная страхом мысль плохо работает. Загипнотизированные жуткими падающими факелами, Рогова и Сухорукова продолжают идти прежним курсом на прежней высоте и попадают в сокрестие лучей. Горит третий самолёт. Как в страшной сказке: невидимое чудовище пожирает подруг. И только четвёртый экипаж находит выход. Набирать высоту бесполезно – фашистский истребитель в состоянии подняться намного выше ПО-2. Значит, надо спуститься. Фашист с его скоростью не сможет охотиться на малой высоте, да ещё в темноте. Конечно, ПО-2 рискует пострадать от осколков и взрывной волны собственных бомб, но тут есть шансы выжить, там же, на высоте тысячи метров – верная гибель.
Четвёртый самолёт спускается до 500 метров, планирует с выключенным мотором, освобождается от бомб над головами немцев. В тишине взрывы гремят оглушительно, самолёт подкидывает вверх, но он остаётся цел. Прожектора шарят где-то в высоте, самолёт тем временем тихо парит, теряя высоту. Включён мотор, и тогда оживают зенитки, но бьют не прицельно.
Пятый экипаж не догадывается предпринять тот же манёвр и погибает, как погибли первые три.
Самолёт Полуниной – Кашириной падает, разваливается в воздухе на куски, в кабине штурмана рвутся ракеты – прощальный сигнал живым.
Все остальные экипажи поступают как четвёртый и невредимыми возвращаются на свой аэродром».
«Тогда к нам в воинскую часть приехал командующий Четвёртой воздушной армией генерал Вершинин, кстати, наш земляк, – вспоминала Анна Ивановна. – Он нас всячески успокаивал и рассказал, что против нас гитлеровцы впервые применили ночные истребители».
Так они боялись «рус фанер», «летающих ведьм».
С ноября 1943 по середину 1944 г. полк поддерживал высадки десантов на Керченском полуострове, участвовал в боях за освобождение Крымского полуострова и Севастополя.
После взятия Новороссийска, освобождения героических защитников «Малой земли» началось быстрое изгнание фашистов с Таманского полуострова. 9 октября 1943 г. за отличие в боях в те месяцы авиационному полку присвоено почётное наименование Таманского.
В начале ноября слово «Эльтиген» было на устах у всех, кто находился на Кавказской стороне Керченского пролива. Это название маленького рыбацкого посёлка на берегу Керченского полуострова, южнее Керчи. Здесь в ненастную ночь на 1 ноября высадился десант 18-й армии, вернее, только часть десантников. Остальные суда из-за сильного шторма на море не смогли подойти к берегу и вернулись на Таманский полуостров. Но те подразделения, которые достигли крымского берега, стремительно атаковали неприятеля и в первую же ночь захватили плацдарм в шесть километров по фронту и в два километра в глубину.
Через несколько дней у десантников подошли к концу продукты и боеприпасы, нечем стало перевязывать раненых, прервалась связь с Большой землёй, осколками снаряда разнесло рацию, убило радиста.Вновь и вновь рвались к Эльтигену советские катера с подкреплением, боеприпасами, продуктами и опять вынуждены были ни с чем возвращаться к своим причалам изза бушующего шторма. А пока десант мог противопоставить противнику, кроме упорства и мужества, лишь пулемёты, противотанковые ружья, винтовки, автоматы, гранаты. Орудия, которые везли на плотах, так на плотах и остались, а плоты разбросал шторм и унёс в море. Не было укреплений, а те, немецкие, что заняли в первые часы после высадки, своими амбразурами были обращены в сторону пролива. Помочь отважным морякам и пехотинцам могла только авиация, в том числе и девушки-лётчицы. Генерал Петроч, командующий фронтом, подписал приказ: «46-му женскому гвардейскому авиаполку ночных бомбардировщиков пробиться к десантникам и доставить им продовольствие, боеприпасы, медикаменты».
Приказ выполняли в нелётную погоду, мешали дождь и низкая облачность, штормовой ветер. Девушки крепили к бомбодержателям мешки с патронами, провиантом, медикаментами и сбрасывали их на узкой полосе крымского берега. В этом случае годилась только малая скорость самолётов с женскими экипажами. Более быстроходным такая задача была не по плечу, они попросту проскакивали небольшой плацдарм. Чтобы сбрасывать мешки на цель, нужна была исключительная точность, даже небольшой просчёт грозил потерей ценного груза.
«Наши лёгкие бипланы сносило ветром, нас искали и ловили прожектора фашистов, а потом начинали бить зенитки, – вспоминала А. И. Дудина. – На бреющем полёте проносились мы над головами врагов, на еле заметные сигнальные огоньки десантников сбрасывали мешки и возвращались к себе. В Пересыпе на берегу Азовского моря брали новые мешки и опять летели через пролив к Эльтигену.
Бывало, с середины пролива уберёшь газ и планируешь до самого крымского берега. Фашисты бьют из чего попало, даже из автоматов, пули пробивают плоскости… Но вот уже под крылом долгожданные огоньки, тогда что есть мочи кричишь: “Принимай гостинцы, пехота! У нас картошка и медикаменты, патроны – следующий. Привет от 46-го женского, гвардейского!”
Двадцать шесть ночей летали мы к десантникам. Каждый такой рейс нёс им спасение, укреплял уверенность в победе».
Вот так, наперекор фашистским снарядам и пулям, с шутками летали на боевые задания девушки, выполняли приказы командования. Боялись ли они смерти? Скорее всего, да. Ведь каждый человек хочет жить и жить. А для лётчиц жизнь была ещё и возможностью сражаться, бить врага, освобождая родную землю, и мстить за погибших подруг.
Из письма Анны Дудиной с фронта:
(12 февраля 1944 г.)
«Видишь, мамочка, как я часто пишу тебе. Получаешь ли ты мои письма? У нас сейчас стоит скверная погода. Едва лишь уловим мало-мальски сносную, летаем на задания. А то, прямо по поговорке: “Сидим у моря и ждём погоды”. Тася Володина и Аня Бондарева не вернулись с боевого задания. Паша Прасолова с Клавой Старцевой сели на вынужденную в нейтральной полосе. Вынесли наших девушек бойцы. Обе находятся сейчас в Краснодаре, в госпитале. Состояние их плохое. У меня пока всего только 285 вылетов. Хочу довести их до 350, а погода не позволяет…»
Но до конца войны она почти в два раза перевыполнила намеченный план. Да, девушки рвались в бой, и ничто не могло остановить их душевный порыв, ведь каждый вылет, каждая метко сброшенная бомба приближали победу в войне, конец в которой, они были уверены, всё равно придёт.
Из письма Анны Дудиной с фронта:
(7 марта 1944 г.)
«Добрый день, милая мама! Поздравляю тебя с Международным женским днём 8 марта. Сегодня я опять посылаю фото и стихи. Может быть, ты скажешь, что я атакую тебя стихами, так вот почему это. Потому, что в этих стихах нет ни капли прикрас, они отражают нашу работу и жизнь. А лучше я не напишу. Ведь в стихе всё сказано: о прожекторах, и о зенитках, и о том, как возим листовки. А сочиняет их наша лётчица Наташа Меклин, очень умная девушка, которая каждую ночь летает с нами в пекло. Она имеет 550 боевых вылетов, награждена двумя орденами.
Ночь, тьма, лишь яркий свет ракет
порой то вспыхнет, то погаснет…
Нет, не забыли мы и солнца свет –
мы вырвем у врага утерянное счастье!
Врага мы будем бить с заката до рассвета,
не зная жалости, без отдыха, без сна.
Бомбим его зимой, бомбили его летом
и будем добивать, когда придёт весна.
* * *
Вот цель подо мною. Одна в вышине
парю над горами при светлой луне.
А штурман мой сзади в кабине второй,
листовки его окружают горой.
Мой верный товарищ, помощник и друг
берёт их, бросает и смотрит вокруг.
Над целью, став в круг, виражит самолёт,
а штурман бросает и песню поёт:
“Лети, мой листочек, родной голубочек,
наставь, наведи их на праведный путь!”
Но им, вероятно, не будет понятно, –
тогда я и бомбой готов агитнуть.
Два дня мы уже не летаем, стоит густой туман. Сейчас у нас было торжественное собрание. Приезжали гости из Кабардино-Балкарии с подарками. Привезли кино».
Хоть какая-то радость в монотонности боевых будней и ночных вылетов на бомбёжки. Но в ненастье лётчицы не теряли времени зря, изучали карты местности, куда предстояло лететь, может быть, уже в следующую ночь, делились боевым опытом, писали письма родным, читали, да и отоспаться, отдохнуть от напряжения боёв тоже надо было…

Анна Ивановна Дудина. 1945 г.
Из письма Анны Дудиной с фронта:
(5 апреля 1944 г.)
«…Получила от тебя сразу шесть писем. Очень была рада, читала девчатам. А также – вырезку из газеты. Нам всем было очень приятно читать эти строки, приятно, что нас не забывают в тылу, ценят нашу работу и гордятся ей. Это ещё больше вдохновляет нас и придаёт силы в борьбе с извергами. Наш полк заслужил славу гвардейского, но стараемся работать так, чтобы он стал и краснознамённым».
В редакционных подшивках, которые хранятся в Уржумском краеведческом музее и по сей день, я нашёл ту самую заметку. 9 марта 1944 г. уржумская районная газета «Кировская искра» поместила на первой полосе статью «Отважный авиатор Анна Дудина», в которой рассказывалось о нашей славной землячке.
«…Давно гремят раскаты Великой Отечественной войны. Давно находится в рядах Красной Армии бывшая наборщица, а теперь лейтенант авиации Анна Дудина. Осуществилась её заветная мечта – овладеть самолётом…
Нюра горячо любит свою мать, и ведёт с ней самую горячую переписку. “Милая мама, – пишет Нюра в одном из писем, – вчера вечером на старте получила от тебя сразу два письма, прямо перед вылетом на боевое задание. Читать было темно, но я прочла их в кабине перед электрофонариком. Как приятно читать твои милые строки перед самым полётом. Скажу без преувеличения, что твои слова в письме: “Бей фашистов точнее, прямо по цели, без промаху”, просто вдохновляют выполнить боевое задание на “отлично”, убить больше гадов-немцев, не дрогнуть перед десятками прожекторов, зенитками, всеми видами противовоздушной обороны немцев, сбрасывать бомбы прямо на головы извергам.
Позавчера командир эскадрильи поздравила меня с правительственной наградой – орденом Отечественной войны II степени. Я клянусь, что пока будет биться моё сердце, не оставлю руль самолёта до истребления последнего фашиста на нашей земле.
Многих девчат отпускают домой, ну а я пока не прошусь, у меня маловато вылетов…»
Из письма Анны Дудиной с фронта:
(11 апреля 1944 г.)
«Ты пишешь, что ждёшь меня и приготовила кое-что. Милая мама, если буду жива, наверное, до конца войны не придётся приехать к тебе, хотя я уже имею 360 боевых вылетов. Может быть, ещё нужно сделать около этого, чтобы уничтожить гадюк-фашистов всех до единого.
Нужно их бить и бить до конца, слишком много они взяли от нас. 8 апреля мы ещё потеряли наших подруг – Пашу Прокофьеву и штурмана полка Женю Рудневу, трижды орденоносную. Они горели над целью и упали на той стороне. Наш путь горько отмечен пролитой кровью. Эти девушки сгорели на наших глазах. Ох, мама, как тяжело терять близких подруг. У меня с Женечкой дни рождения совпадали – 24 декабря. В этот день она прислала мне поздравление.
Не хочется верить в их гибель, хотя я сама видела, как горели наши подруги. Мы летаем с каким-то остервенением, делаем подчас больше того, что нужно, и в этом находим успокоение себе. А она была в семье одна… Что будет с матерью?
Все эти дни мы работаем по максимуму – с захода до восхода солнца. Сегодня освободили Керчь и ещё много вокруг… Нашей мести не должно быть предела, и нет его!
Если бы ты побывала у нас и посмотрела на девушек, то увидела бы, какие они женственные. Мы здесь не превратились в грубые существа, мы – всё те же на вид, что и до войны, но вот наши сердца огрубели, огрубели от ненависти… Женщина слаба на слёзы, а здесь их нет, когда среди нас бывают потери близких, родных подруг…
Пусть наши родные, когда мы вернёмся домой, простят нам нашу грубость и некоторую нервозность…»
В письмах Анна Дудина успокаивает мать. На самом деле лётчицы после нескольких месяцев военной службы становились характерами крепче некоторых мужчин. Ночные вылеты, физические и нервные перегрузки доводили их организм до такого истощения, что после выполнения боевого задания из кабины их, взмокших от пота, вытаскивали. Вступив на землю, они буквально еле волочили ноги. И так было почти каждую ночь.
Прежде думай о Родине, а потом о себе.
24 апреля 1944 г. за участие в освобождении Феодосии полк был награждён орденом Красного Знамени. А после освобождения Севастополя советскими войсками и Анне Дудиной, на боевом счету которой числилось уже 410 боевых вылетов, тоже был вручён орден Красного Знамени.
«Каждый боевой вылет таит много сюрпризов, – вспоминала в 1968 г. отважная лётчица. – Ночью с высоты хорошо видны все выстрелы с земли. Вот стреляют зенитки, отвернёшь самолёт от летящего снаряда, а тут где-нибудь рядом разорвётся ещё один, и только слышишь, как осколки пробивают крылья и фюзеляж машины. Или строчат по тебе спаренные пулемёты, синхронные с лучом прожектора. Вот примерно так нас частенько провожали до цели и обратно. И происходило это каждую ночь, каждый боевой вылет».
В июне – июле 1944 г. Анна Дудина с однополчанками сражалась в Белоруссии, помогая освобождать Могилёв, Червень, Минск, Белосток, другие населённые пункты.
Вместе со штурманом Соней Водяник она часто делала по восемь-девять вылетов в ночь. Они разбрасывали листовки, бомбили скопления войск в тылу врага и его передний край, летали на разведку. И как бы им ни было трудно, девушки выполняли задание. Экипаж и сдружился, и хорошо сработался, приобрёл большой боевой опыт. Девушки отлично ориентировались на незнакомой местности, всегда точно выходили на цель, метко её поражали, умело уходили из-под огня противника, возвращались на базу и, заправившись, снова поднимались в небо. Взлетали с пятачков, окружённых лесом, с деревенских улиц, с весеннего вспаханного поля, когда колёса шасси по оси увязали в мягкой земле и под них подкладывали доски, чтобы сдвинуть машину с места…
«Представьте себе боевую лётную ночь. Аэродром. Ни огонька, – рассказывала А. И. Дудина. – Самолёты один за другим исчезают в темноте. Передовую линию обороны хорошо видно с воздуха, она вся освещена трассирующими пулями, ракетами, разрывами мин и снарядов, пожарами. Прожектора и зенитки уже ищут нас, услышав шум моторов. Мы сбрасываем бомбы. А с земли уже – море огня и света. Успевай, поворачивайся! Но успешно отбомбившись, мы стараемся огрызнуться пулемётом (лишь в середине 1944 г. на самолётах полка были установлены пулемёты, до этого лётчицы были вооружены только пистолетами ТТ. – В. Ш.) и выйти из щупальцев прожекторов, чтобы не было приманки для ночного истребителя врага. Идём на свою базу для новой заправки. Бывали, конечно, ночи, когда мы не досчитывались двух или трёх экипажей…»
За освобождение Белоруссии полк был награждён орденом Суворова III степени.
В августе лётчицы громили врага на территории Польши, участвовали в освобождении Августова, Варшавы, Остроленка.
Из письма Анны Дудиной с фронта:
(28 октября 1944 г.)
«Мама! Поздравляю с праздником 7 ноября!
26 октября ночью я сделала пятисотый вылет. Ведь только подумать – 500! Много за это время ушло воды, а ещё больше здоровья и нервов.
Мы с Софкой отметили мои 500 вылетов замечательно, фашистам здорово досталось, а утром выпили по сто граммов. Девчата меня поздравили с юбилеем и просили передать тебе от них самый горячий привет, а особенно – от Наташи Меклин (у неё уже 800 боевых вылетов).
В общем, живём хорошо. Сегодня получили унты, шапки меховые. Летать будет тепло. Утром бывают заморозки, но снега нет и в помине. Устаём здорово…
Недавно мы стояли около Белостока. Бомбили скопления фашистов в Ломже и Остроленке. И опять мы с Соней Водяник принесли весть о сбитом самолёте. Летали мы на одну цель. Первый самолёт отбомбился, затем пошли мы. При подходе к линии БС (боевое соприкосновение) мы заметили впереди себя две жёлтые вспышки. В стороне прошёл встречный “фокке-вульф”, а впереди мы увидели горящий самолёт. Мы проследили, где он упал, и, когда вернулись с задания, доложили об этом командованию. Самолёт оказался Тани Макаровой и Веры Белик. Это наши чудесные подруги. Сердце сжалось от боли и ненависти к фашистам.
7 ноября, если работать не будем, готовимся праздновать».
В этом же письме Анна послала домой сочинённое самой стихотворение:
«Мама! На твои усталые ресницы
Тишина тревожно улеглась…
Что тебе, мамуся, снится
В этот тихий, предрассветный час?
На твоём лице так много линий –
Беспощадный след суровых дней,
И густеет всё сильнее иней,
Серебрясь на голове твоей.
Мы с тобой разделены годами,
И тревога в дом вошла к тебе.
Сколько их, сомнений и гаданий
О капризной воинской судьбе.
Сколько раз выходишь ты из дому
Посмотреть, идёт ли или нет
Почтальон, давно тебе знакомый,
Чтоб прочесть в глазах его ответ.
Дорогая, мы идём в берлогу
Добивать фашистских, злых зверей
За твои страданья и тревогу,
За познавших горе матерей.
Сквозь огонь пожарищ, дым развалин
Я приду, ведь по стране родной
Миллионы женщин нынче встали
И шагают вместе с нами в бой.
Чтоб не плыл над миром трупный запах,
По земле не сеял бы беду,
Дорогая, я иду на запад.
Это значит: я к тебе иду».
И снова любящая дочь успокаивает мать: выдали тёплое обмундирование. Нам, живущим сейчас, того девичьего порыва, наверное, не понять. Не могу я представить себя на её месте. Не каждый просто физически выдержит такие перегрузки. Ведь для нас это можно сравнить с тем, что всю ночь прокататься на мотоцикле, когда на скорости холодный ветер бьёт в лицо, руки даже в рукавицах коченеют, и размяться нельзя — кабина самолёта слишком узкая. А они, девчонки, выдержали. Выдержали и победили врага.
Анна не пишет: служим, сражаемся, воюем, бьёмся с врагом. По её мнению, лётчицы «просто работают». Так писали и командиры девчат в представлениях к награждению: «работают». Можно подумать, что у тех, кто трудится в тылу, работа гораздо труднее. И так было везде: и на передовой, и в тылу врага, и в нашем глубоком тылу. Каждый советский человек стремился сделать всё для того, чтобы приблизить тот победный час, когда закончится война.
В январе 1945 г. девушки-лётчицы сражались в Восточной Пруссии. В марте гвардейцы полка участвовали в освобождении Гдыни и Гданьска.
«При прорыве обороны немцев на западном берегу Одера и овладении городом Штеттином мы с Соней сделали 16 боевых вылетов за ночь, находились в воздухе по 12 часов, за что получили благодарность Верховного Главнокомандующего», — вспоминала А. И. Дудина.
В то время она и повстречала своего суженого, ведь девчата дали зарок: не влюбляться до конца войны, потому что или с женихом, или с невестой могло случиться всякое. Они видели, как гибли их подруги. А сейчас по всему чувствовалось, что скоро война закончится. Анне приглянулся старший лейтенант Василий Мишин, который сопровождал в полк автоколонну с боеприпасами.
В Международный женский день, 8 марта 1945 г. Маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский вручал отличившимся лётчицам и штурманам правительственные награды. Отважной уржумской девушке он прикрепил к гимнастёрке очередную награду — орден Красного Знамени. Праздник надолго запомнился Анне ещё и тем, что они с Василием в этот день объяснились в любви.
В апреле и до окончания войны лётчицы полка громили врага на Одере. Вспоминая те дни, события которых и через много лет хорошо сохранились в памяти женщины, Анна Ивановна рассказывала:
«Я и сейчас будто вижу Данциг. Помню все его кварталы, охваченные пламенем, вижу землю, изрытую траншеями, щелями и воронками от авиабомб. Ориентиров имелось более чем достаточно, и выйти на цель было несложно. Труднее было возвращаться. В марте начался сильный снегопад, и многие экипажи делали посадки не на своём аэродроме. А мой штурман Соня Водяник неизменно приводила меня домой, и мы благополучно приземлялись».
5 мая 1945 г. Анна Дудина совершила последний боевой вылет —
В июне Василий Мишин и Анна Дудина сыграли свадьбу. А через несколько дней она вместе с другими лётчицами полка начала готовиться к Параду Победы в Москве...
15 октября 1945 г.
Боевые потери полка составили 32 человека. Несмотря на то, что лётчицы гибли за линией фронта, ни одна из них не считалась пропавшей без вести. После войны комиссар полка Евдокия Яковлевна Рачкевич на деньги, собранные личным составом, объездила места, где были сбиты самолёты, и разыскала могилы всех погибших.
Девичья фронтовая дружба жила долго. Ежегодно 2 мая и 8 ноября девчата военной поры собирались в сквере Большого театра в Москве — так они решили на последнем собрании полка. Во время этих встреч бывшие гвардейцы рассказывали друг другу о своей жизни после войны, об успехах и трудностях в работе. Вспоминали и однополчан, и дни своей тревожной военной юности.
Бывшая лётчица М. П. Чечнева впоследствии писала:
«После Парада Победы и отдыха в Алупке Анна вернулась в Польшу, где продолжал служить её муж. Сменив гимнастёрку на лёгкое женское платье, а сапоги — на модные туфли, отличная лётчица стала хорошей женой, добрым товарищем и верным другом Василия. Я тоже в те годы служила в Польше, и мне часто приходилось встречаться с молодой супружеской четой. Было радостно видеть семейное счастье этих прекрасных людей. Потом Мишиных перевели на Дальний Восток. Там тоже Аня нашла применение своим способностям. Много времени уделяла она работе среди жён военнослужащих, а вечерами посещала курсы иностранных языков. Всё шло хорошо, но время от времени можно было заметить, каким тоскующим взглядом провожала молодая женщина пролетавший над головой самолёт. Её по-прежнему неудержимо тянуло в небо.
И мечта моей боевой подруги сбылась. Когда мужа перевели в Белоруссию, Аннушка снова занялась своим любимым делом. Прославленная лётчица и отличный педагог стала инструктором-лётчиком Могилёвского аэроклуба. Более 100 человек получили благодаря ей путёвки в большую авиацию. Весь жар души отдавала она обучению юношей и девушек лётному мастерству. Немалого времени требовала и работа в горсовете, депутатом которого Анну Ивановну избирали на протяжении нескольких лет».
«Беспримерен патриотизм и героизм наших советских лётчиц, на долю которых выпали такие жестокие испытания. Вот так мы, в то время девушки и молодые женщины, защищали свою Родину от фашизма, — заканчивала Анна Ивановна письмо, в котором рассказывала о том трудном и героическом военном времени, обращаясь к учителям и учащимся родной Андреевской школы. — Учите молодёжь любить свою Родину превыше всего, беречь её и, если будет нужно, защищать до последней капли крови».
5 апреля 1985 г. к сорокалетнему юбилею Победы А. И. Мишина была награждена орденом Отечественной войны II степени.
В последние годы жизни Анна Ивановна проживала в белорусском городе Могилёве. Часто её приглашали на встречи в трудовые коллективы и учебные заведения. Как школьникам, так и взрослым было интересно слушать её рассказы о ночных боевых вылетах в фашистские тылы, о риске, какому подвергались лётчицы. Но Анна Ивановна была немногословной о себе, больше говорила о подругах, с кем воевала, кого потерял полк в боях, о тех, кому было присвоено высокое звание Героя Советского Союза. Вспоминала она и о своём бедном детстве и радовалась, что после войны в городах и сёлах, на оккупированной в Великую Отечественную войну территории жизнь постепенно налаживалась, становилась лучше и интереснее.
После выхода на пенсию по воинской выслуге и состоянию здоровья продолжала работать в областном отделе социального обеспечения. Анна Ивановна занималась и общественной работой, возглавляла общество по охране памятников истории и культуры.
Лётчица-ветеран поддерживала связь с родной Андреевской школой, писала письма с воспоминаниями, посылала фотографии. Учителя и учащиеся и сейчас бережно хранят все эти материалы. Не раз она приезжала к нам в район. Посещая типографию, где начинался её трудовой путь, вспоминала, что в период стахановского месячника, проходившего с 24 марта 1936 г., она выполнила норму выработки по текстовому набору на 115,8 процента, о чём сообщила «Кировская искра» в номере за 2 апреля того года. «Сильно возросло за период месячника, — писал автор заметки Решетников, — качество набора. Особенно хорошие показатели даны молодой наборщицей Дудиной, которая на 100 строк набора более 6 ошибок не делала, не допускала ни одного пропуска».
Скончалась Анна Ивановна Мишина (Дудина) 12 июня 1991 г., похоронена в городе Могилёве.
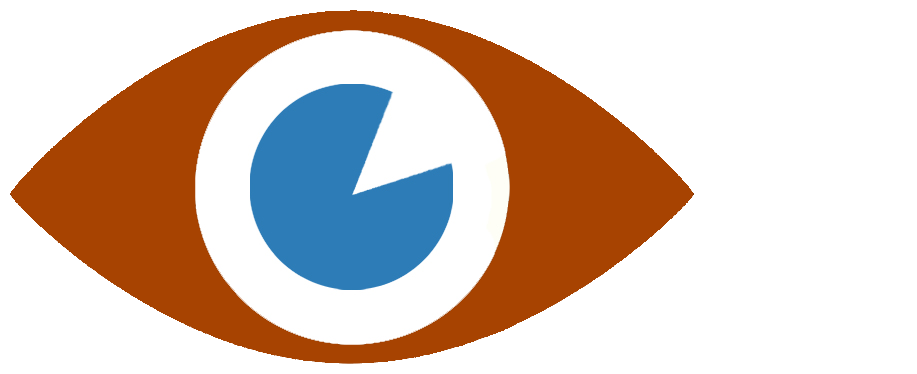 Версия для слабовидящих
Версия для слабовидящих