Молодость «Молодости» – шестьдесят лет клубу
Т. К. Николаева
В наступившем году исполнилось 60 лет литературному клубу «Молодость». Я почти уверена, что наш клуб — старейший в стране. В 1963 году (а также чуть раньше и чуть позже) клубы, объединения, студии рождались везде — это был по-настоящему поэтический бум. Сегодня мы уже можем спокойно и трезво анализировать то время, за которым закрепилось название оттепель. В нём было много прекрасного, нового, много желаний, стремлений к переменам, хоть ещё и робкой, но всё же уже свободы. Было и то, за что сегодня оттепельное время подвергается нападкам — романтическая увлечённость некоторым образом ограничивала зрение, и мы видели многие явления приукрашенными, желаемое принимали за действительное и открывшиеся возможности восхваляли, прославляли, но не были готовы отстаивать их делами. Увы, мы поддавались громким призывам и лозунгам, рвались на героические стройки, на освоение целины, девочек сажали на трактора и комбайны. Очень быстро выяснилось, что за этими призывами часто стоял непрофессионализм руководителей, безответственность аналитиков и проектировщиков. Одним словом, издержек было много.
Но вот одно явление мне из нашего сегодняшнего «потребительского» состояния видится абсолютно прекрасным — это именно тот самый, никем не ожидаемый взлёт интереса к литературе, причём к литературе умной, достойной тех вершин, на которую её подняли предшественники, русские гении да и мировые классики вообще. Особенный ажиотаж вызывали рождавшиеся в каких-то непостижимых количествах произведения поэтические. Складывалось впечатление, что писать стихи бросились все — от средних и старших школьников до докторов технических наук, пенсионеров, колхозников, рабочих, милиционеров, полковников в отставке и прочих. А читали и слушали стихи абсолютно все.
Тогда и появилась самая знаменитая поэтическая четвёрка: Вознесенский, Рождественский, Ахмадулина, Евтушенко. К ним постепенно присоединился Окуджава.
В 1963 году меня приняли на работу в «Комсомольское племя». Я стала работать в отделе, который назывался сурово «Отдел идеологии и культуры», но с самого начала мне пришлось заниматься стихами.
А потом произошло то, о чём Альберт Лиханов впоследствии вспоминал. Он писал: «Все началось с Тамары...» Началось-то, конечно, раньше. Но с меня начался альманах «Молодость» в газете «Комсомольское племя», который и стал основой вскоре возникшего клуба с тем же именем. 13 мая 1962 года появилась первая страничка альманаха с моими стихами.
Однажды я пришла в редакцию, смотрю — входит миниатюрная женщина и волочет бумажный почтовый мешок. Она грохнула его у моего стола и сказала, что больше не будет с этими мешками ходить на четвёртый этаж и считать письма не будет, ей взвесили мешок — 15 килограммов писем. Вот так и принимайте!
Так откликнулась молодёжь на первые публикации стихов в газете, которые тогда готовил Кожемякин. А отвечать на горы стихов, которые не могли быть напечатаны, приходилось мне. И сегодня я понимаю, что тогда был не только поэтический бум, но и графоманский. А в редакциях было строго: каждое письмо в газету регистрировалось, и на него надо было ответить в течение десяти дней. Одна бы я не справилась, но мне помогали и талантливый поэт Владилен Кожемякин, и профессиональный юрист, автор замечательной книги стихов, вышедшей в Свердловске (ныне Екатеринбург), Борис Марьев, уроженец Зуевки, который частенько навещал мать и обязательно приезжал в Киров, и другие сотрудники редакции.
Годом позже в предисловии к первому коллективному сборничку «Молодости» стихов молодых поэтов Кировской области Альберт Лиханов, редактор газеты «Комсомольское племя», писал:
«Синие, жёлтые, голубые...
Их было много. Они приходили каждый день. И зимой, и летом. И, честно говоря, не очень радовали нас. Примерно с середины марта поток этот начинал угрожающе расти. Это наступала весна. Словно растаял снег, и бурливая, шумная речка понеслась по полям, по дорогам — и прямо к нам, в редакцию. Зав. отделом пропаганды хватался за голову:
— Начался!
Неискушённые вопрошали:
— Кто начался?
— Что началось?
— Потоп начался! Всемирный! Читатель стихи пошёл писать!..»
Да, стихи были стихийным бедствием. И прежде всего потому, что они были плохи. Совсем плохи. Да что стихи! А толстенные рассказы, а повести!..
И вот редколлегия, вконец замученная плохими стихами, рассказами, повестями, мрачно собралась в кабинете ответственного секретаря и не менее мрачно задумалась. Вопрос был стар как мир: что делать?.. После долгих раздумий решили не очень оригинально, но мудро: «С авторами надо работать!» А потом придумали и форму этой истины — создали в газете... литературный альманах. Нарекли его — «Молодость»...
В обращении от редакции излагалась примерно такая идея. Есть у нас в области клубы фотолюбителей, кинолюбителей, филателистов, нумизматов... Клубов много, и не зря они существуют. Объединяют людей, чему-то их учат. А кто объединяет литературную молодёжь?.. И редакция решила взять на себя нелёгкий и очень ответственный груз — попытаться объединить её вокруг «Молодости».
2 октября 1963 года состоялось первое собрание членов клуба «Молодость». Приглашение на первое занятие, опубликованное в газете, подписали большие начальники: ответственный секретарь Кировского отделения Союза советских писателей А. Филёв, редактор газеты «Кировская правда» О. Любовиков и первый секретарь промышленного обкома ВЛКСМ А. Дзюба. А во главе клуба стали писатели — люди уже признанные, авторы книг и многих литературных публикаций: Овидий Любовиков, Леонид Дьяконов, Борис Порфирьев, Владимир Ситников. Занятия вели и другие кировские писатели, и нередкие гости из Москвы, Ленинграда, Перми, Горького (ныне Нижний Новгород). Тогда же вышел первый сборничек стихов, на обложке которого была девочка с вербой, ставшая символом клуба, завоевавшая популярность далеко за границами Кировской области. Не мускулистый пролетарий с молотом на плече, не колхозница в платочке и с серпом в руке, а милая, задумчивая девочка в свитерке и с веточками вербы.
Некоторые стихи из этого сборничка, несмотря на их кажущуюся непритязательность, сделались популярными не только у нас, участников клуба «Молодость», но и у читателей. Нам об этом писали, говорили на многочисленных встречах. Вот, например, стихотворение Анатолия Быстрова «Осень»:
Ещё горчит рябиновая кисть,
Но манит птиц багряною красою,
А в озерках, просвеченных насквозь,
Смешался запах ягоды и хвои.
Звенят осинки тихо на ветру,
Снимая ярко-огненные шапки.
У глухарей, гуляющих в бору,
Брусничным соком вымазаны лапки.
До сих пор помню наизусть! И до сих пор считаю одним из лучших стихотворений той поры. А как ему доставалось от высоколобых критиков! И за безыдейность, и за мелкотемье, и за сюсюканье (подумайте-ка: осинки, озерки, лапки).
Тут, наверное, стоит пояснить, почему такая пейзажная поэзия у многих старших товарищей — и по возрасту, и по должностям — вызывала неприязнь, а нас приводила в восторг. До оттепели в массовой печати, в газетах и журналах, вообще не печатали таких легкомысленных стихов. Стихи должны были быть чётко соцреалистическими — про партию, про вождей, про комсомол, про трудовые достижения, коммунистические стройки, подъём целины, поворот сибирских рек и тому подобное. Я помню, какой ажиотажный спрос вызвала небольшая книжечка стихов Вероники Тушновой «Сто часов счастья», где все стихи были про любовь. Сейчас молодые не могут этого ни понять, ни вообразить. А тогда стихи о природе, о нежности, о любви, о томительной разлуке, об ожидании свидания собирали полные залы слушателей, наши поэтические странички в газете вырезались и зачитывались до дыр.
В этом же первом сборничке «Молодость» было и стихотворение Бориса Марьева «Куда он делся, номер телефона?»
Куда он делся, номер телефона?
Табак в карманах. Рифмы. Адреса.
А в городе твоём, в чужом и сонном,
Я был проездом — полтора часа...
С ума сойти! А ты ведь рядом, рядом!
Твоим дыханьем ветер напоён.
И вот гремит отчаянной руладой
По городу нахальный телефон.
Мне было стыдно голосов суровых,
Встревоженных, приветливых чужих...
Как я просил прощения у них!
Как объяснял, выспрашивал. И снова
На медяки разменивал рубли...
Ещё тебе, не вымолвив ни слова,
Я говорил им о своей любви.
Но я нашёл тебя. И ты успела.
И ты сказала: «Милый!» — как во сне
...Я стал впервые этой ночью смелым.
Полгорода сочувствовало мне!
Объяснить сегодня прельстительное обаяние этого стихотворения так же трудно, как рассказать, зачем герой разменивал рубли на медяки, и что он с этими медяками делал.
Таких стихов было если не очень много, то вполне достаточно для того, чтобы сегодня вспоминать первые годы существования клуба с ностальгической нежностью. И я горжусь, когда сегодня весьма пожилые женщины подходят и говорят, как им нравилось моё стихотворение «Любимому», и иногда читают его наизусть.
А ты будешь мне помогать мыть пол?..
Особенно почему-то нравилось окончание стихотворения:
Ну, а если я пересолю винегрет —
Ты не будешь на это сердиться, нет?
Ну, можно ли теперь охаивать те дни оттепели? Наверное, и мы должны больше рассказывать, популяризировать всё то хорошее, что родилось тогда и что дало прекрасные ростки, что помогло стране не одичать, не расчеловечиться в суровые девяностые. Но как перескажешь прекрасные стихи?
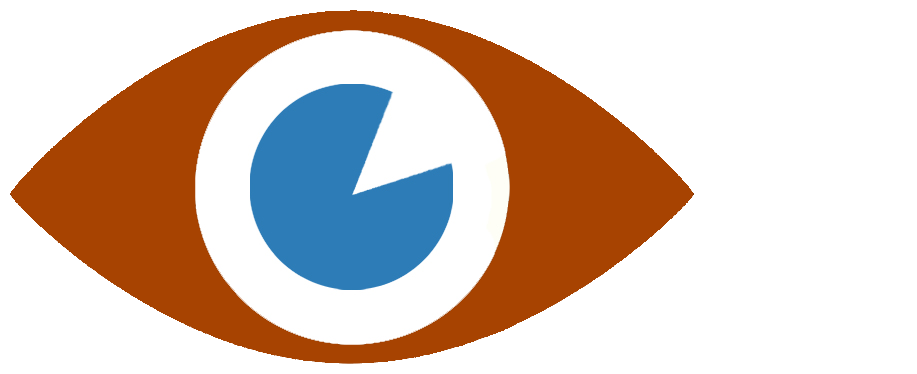 Версия для слабовидящих
Версия для слабовидящих