«Я только русью и жил!..»
Росписи Владимирского собора Виктора Васнецова много лет вызывали интерес духовенства и архитекторов к религиозной живописи художника. Нередко он совмещал несколько заказов. Ещё не закончив эскизы для Владимирского собора, художник работал для храма Воскресения (Петербург, 1883–1901). Одновременно с последним создавал цикл для Георгиевской церкви (Гусь-Хрустальный, 1885–1904). Параллельно велась разработка эскизов для русской церкви в Дармштадте (1899–1901). Один за другим исполнялись заказы для собора Александра Невского (Варшава, 1906–1911) и церкви Христа Спасителя (Спас на водах, Петербург, 1910–1911). Писал образа для иконостаса, храма Александра Невского в Софии (1904–1913),заложенного в 1882 г. в память освобождения Болгарии от турецкого ига.
Этот огромный объём работы и его творческий характер, безусловно, рождались не на пустом месте. В основе лежало глубокое понимание сути православия, размышления о его назначении, вера в его благотворное влияние на судьбы общества, осмысление мирового опыта религиозного искусства. В сохранившейся личной библиотеке В. М. Васнецова – труды философа и богослова Соловьёва, исторические сочинения Уварова, Ключевского, Буслаева, Забелина, Кондакова, сборники древних церковных напевов, причитаний Северного края, многие периодические издания – всё это говорит о широте и целеустремлённости интересов художника.
Насколько серьёзно Виктор Васнецов подходил к украшению храмов, свидетельствует черновик письма в Комитет по сооружению Православного соборного храма в Варшаве: «Характер живописи всякого православного храма должен быть выдержан в церковном стиле, основанном на Византийских и древнерусских церковных иконописных памятниках до конца XVIII века... Для каждого изображения собирается специалистами церковной истории материал под руководством учёных-иконографов… Рекомендация работ художника определяется существующими на данное время канонами изображения, назначением культовой постройки, особенностями архитектурного решения и личным вкусом заказчика».
Но во всех росписях соборов разработка эскизов и трактовка образов всегда принадлежала автору – Виктору Васнецову. «Мозаики должны исполняться по оригиналу... Исполнительные рисунки для производства работ должны быть (каждый) просмотрены мною и утверждены моей подписью», – пишет он Ю. С. Мальцеву, получив от него заказ на украшение Георгиевской церкви в Гусь-Хрустальном. И далее в письме: «Принимая на себя исполнение столь ответственной, сложной и многотрудной задачи, я считаю долгом отнестись к ней, как с собственному личному художественному труду и... буду рад послужить посильно и с Божьею помощью делу русского искусства».
Четыре росписи на холсте: «Голгофа», «Сошествие во ад», «Евхаристия», «Страшный суд», эскизы мозаики «О тебе радуется благодатная» и проект бронзового иконостаса с эмалью были главным украшением храма.
История многих монументальных работ В. М. Васнецова трагична. Через несколько лет после революции, ещё при жизни Виктора Васнецова, в 1923 г., художник Михаил Нестеров сообщал об участи церкви в Гусь-Хрустальном: «Храм обращён в кинематограф, а картины (росписи) после разных мытарств оказались во Владимире, где их видели сейчас – «Страшный суд» – накатанным на большую жердь, разорванным более чем на аршин (более 70 см) внизу и наскоро зашитым бечёвкой (до того он был сложен в несколько раз и на сгибах потёрся)... Две другие картины без определённого назначения валяются в другом соборе. Сырость делает своё дело. В общем, не знают, что с этим имуществом в настоящее время делать... «Страшный суд» я считаю лучшим из произведений Васнецова после алтарной росписи Киевского Владимирского собора...». К счастью, четверть века назад «Страшный суд» был отреставрирован и занял предназначенное ему художником место на западной стене Георгиевской церкви, но храм в те годы был превращён в выставочный зал.
Разрушены храмы Александра Невского в Варшаве, «Спас на водах» в Петербурге, исчезли многие иконы, предназначенные для членов царской семьи и императорской яхты «Штандарт», и другие, написанные В. М. Васнецовым по заказам частных лиц в России и Англии. Не каждый из нас может увидеть его работы в Софии и Дармштадте. Но в Петербурге нынче такая возможность есть. Сохранились шесть уникальных мозаик в Храме Воскресения. Храм Воскресения «Спас-на-крови» построен на месте убиения императора Александра II 1 марта 1881 г. Архитектор А. Парланд, которому принадлежало общее руководство программой мозаичного ансамбля (площадью до 8000 кв. м.) пригласил для работы большую группу художников, ранее работавших для украшения многих храмов России, в том числе Исаакиевского собора. Правда, первоначально по замыслу архитектора большую часть эскизов должен был исполнить В. М. Васнецов, который получил в 1893 г. от А. Парланда такое письмо: «Изучая в продолжение последних десяти лет православную иконопись и зорко следя за современным её развитием, я пришёл к заключению, что лучшим её представителем являетесь, бесспорно, Вы, многоуважаемый Виктор Михайлович. Ваши произведения производят неотразимые впечатления, непосредственно чувствуется тёплая вера художника, сумевшего при её помощи уловить и как бы остановить для созерцания грешному миру образы и лики бесспорной красоты и святости.
Мне кажется, что только или при таких условиях и может развиваться настоящая хорошая иконопись – вне этих условий она превращается в обыкновенную историческую, неспособную воодушевить и подкрепить молящегося...».
Для храма Воскресения «на крови» В. М. Васнецовым было предложено шесть живописных работ. В основном, это многофигурные композиции, где накал темы решается им не только действием и отношением участников. Огромную роль в эмоциональном состоянии мозаик играет среда, переданная художником через жизнь природы.
1. «Несение креста» – «на дальнем плане мятущийся народ и город. Состояние неба – стланное, угрожающее».
2. «Распятие» – «Господь уже почил. Бурное состояние неба утихает, облака слегка озарены заходящим солнцем».
3. «Снятие со креста» – «Бережно несут снятое со креста плечистое тело... Небо уже вечернее, с начинающими появляться звёздами».
4. «Сошествие во ад» – «Христос стоит на разрушенных вратах адовых... Вверху ангелы со знаком победы – Св. Крестом. В безднах – огонь для грешных».
5-6. Местный образ «Вседержителя» и «Богоматери». Подножия на том и на другом образе испещрены цветами. Фон живописный с серафимами».
Судя по дальнейшей переписке В.М. Васнецова с архитектором А. Парландом, Комитетом по украшению храма были сделаны художнику замечания и требования относительно «положения фигур, голов, рук и прочее». На это художник ответил: «Я не могу что-нибудь существенно изменить без внутреннего убеждения, и право решения я считаю законным оставить за собой... к своему крайнему сожалению, вероятно, принуждён буду совершенно отказаться от исполнения предложенных мне работ в храме «Воскресения»». И далее следует подпись «Профессор Васнецов», которую он ставил в редчайших случаях.
Спор решился в пользу В. М. Васнецова. Мозаики по его цветным картонам в натуральную величину исполнял академик А. Н. Фролов (1830–1904), руководитель мозаичным отделением Академии художеств. Он же делал мозаики по эскизам Васнецова для собора в Варшаве, постоянно советуясь с художником относительно цветового решения и верности авторскому замыслу. Да и сам В. М. Васнецов предпринял поездку в Варшаву для ознакомления с мозаиками во время работы.
Лет двадцать, в 1970–1980 годы, храм Воскресения Христова «на крови» стоял в лесах. Внутри и снаружи шли реставрационные работы. Надзор за ними вела искусствовед, родом из Вятки. Потому все эти годы я свободно была вхожа в храм. Несмотря на многочисленные внутренние конструкции, храм производил ошеломляющее впечатление. Из мерцающих золотых фонов виделись лики святых, отдельные детали огромных композиций, набранные мозаичистами без малого сто лет назад из разнообразных кусочков всевозможных натуральных камней и смальты. Всё ликовало и пело. А в душе была радость за таланты исполнителей, мастеров реставраторов, за возвращение современникам великого искусства русских художников.
Россия и Ленинград в труднейшие годы гонения на русскую православную церковь не только сохранили удивительное по красоте сооружение с уникальными мозаиками, но и уберегли от разрушения храм Воскресения Христова как памятник русской истории.
Виктор Васнецов в конце XIX – начале XX в. – самый уважаемый и авторитетный мастер религиозной живописи. За советом к нему и ожиданием получить от него согласие на работы в храмах обращались многие Комитеты, руководившие строительством и украшением новых церквей, председатели совета по охране церковной живописи и даже вятский губернатор. Художник неизменно отвечал всем, кто обращался к нему, подробно, с профессиональным знанием дела, уважением к предшественникам, украшавшим ранее то или иное церковное пространство. Во всех письмах В. М. Васнецов – гражданин, ратующий за сохранение подлинных памятников искусства архитектуры, истории его родины.
Ответ Храму Христа Спасителя в Москве: «Ваше предложение написать в алтаре Храма оригинальное изображение «Тайной вечери» считаю для себя за особую честь, но принять на себя столь почётный заказ не нахожу возможны из уважения памяти Семирадского (автора росписи). Есть способ воспроизвести восстановленную копию картины – мозаика... К «Тайной вечере» Семирадского прибавилось бы новое высокохудожественное украшение в столь знаменитом московском русском храме».
Внимательно вчитайтесь в текст письма, которым 26 января 1887 г. Архимандрит Ювеналий, наставник Киево-Печерской Лавры, приглашает В. М. Васнецова, проработавшего тогда три года во Владимирском соборе: «Имею честь покорнейше просить Вас, милостивый государь, пожаловать в Киево-Печерскую Лавру и, осмотрев стенопись в Великий Лаврской церкви, дать свой письменный отзыв по поводу исправления сей стенописи в древнеправославном церковном стиле». Нам неизвестно заключение В. М. Васнецова относительно стенописи «Великой Лаврской церкви», по всей вероятности, оно удовлетворило Архимандрита Ювеналия, так как в 1893 г. последовало приглашение Виктору Васнецову на работы в Киево-Печерской Лавре.
В конце 1902 или начале 1903 г. В. М. Васнецов получил письмо от действительного статского советника губернатора П. Ф. Хомутова, который являлся председателем «Комитета по ремонту и благоустройству Александро-Невского собора», в котором сообщал художнику о том, что Комитет предполагает переписать все настенные росписи и спрашивает Виктора Васнецова о возможности принять участие в реставрации собора. В ответе художник, «основываясь на фотографиях и собственных воспоминаниях», советует ограничиться частичной реставрацией: «Предлагаю принять моё мнение к сведению, только в том случае, если оно окажется вполне соответствующим намерению устроителей собора и не меняет самого его создателя Витберга». Сам же он, занятый в Москве разнообразными работами, поехать в Вятку не мог и участия в росписи собора не принимал (Александро-Невский собор в Вятке разрушен в 1938 г.).
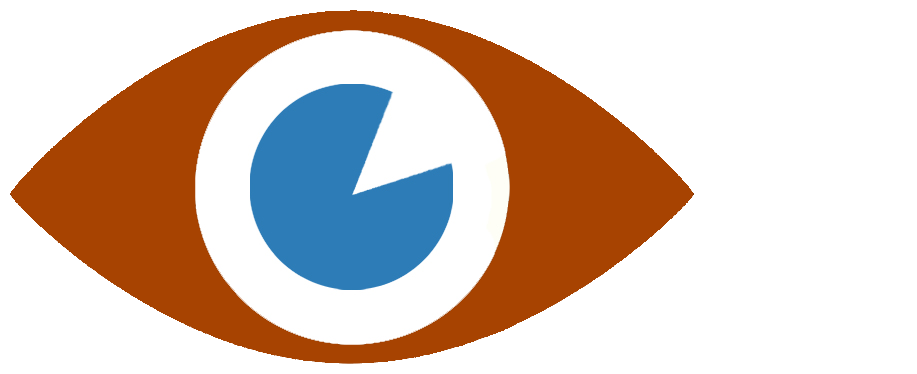 Версия для слабовидящих
Версия для слабовидящих